Притча о художнике который менял людей: Притча о художниках — Мудрые и короткие притчи
Сказка про призвание
Иллюстрация: megatruhХудожником он стал просто потому, что после школы надо было куда-то поступать. Он знал, что работа должна приносить удовольствие, а ему нравилось рисовать – так и был сделан выбор: он поступил в художественное училище.
К этому времени он уже знал, что изображение предметов называется натюрморт, природы – пейзаж, людей – портрет, и еще много чего знал из области избранной профессии. Теперь ему предстояло узнать еще больше. «Для того, чтобы импровизировать, сначала надо научиться играть по нотам, — объявил на вводной лекции импозантный преподаватель, известный художник. – Так что приготовьтесь, будем начинать с азов».
Он начал учиться «играть по нотам». Куб, шар, ваза… Свет, тень, полутень… Постановка руки, перспектива, композиция… Он узнал очень много нового – как натянуть холст и самому сварить грунт, как искусственно состарить полотно и как добиваться тончайших цветовых переходов… Преподаватели его хвалили, а однажды он даже услышал от своего наставника: «Ты художник от бога!». «А разве другие – не от бога?», — подумал он, хотя, чего скрывать, было приятно.
«А разве другие – не от бога?», — подумал он, хотя, чего скрывать, было приятно.
Но вот веселые студенческие годы остались позади, и теперь у него в кармане был диплом о художественном образовании, он много знал и еще больше умел, он набрался знаний и опыта, и пора было начинать отдавать. Но… Что-то у него пошло не так.
Нет, не то чтобы ему не творилось. И не то чтобы профессия разонравилась. Возможно, он просто повзрослел и увидел то, чего раньше не замечал. А открылось ему вот что: кругом кипела жизнь, в которой искусство давно стало товаром, и преуспевал вовсе не обязательно тот, кому было что сказать миру – скорее тот, кто умел грамотно подавать и продавать свое творчество, оказаться в нужное время, в нужном месте, с нужными людьми. Он, к сожалению, так этому и не научился. Он видел, как его товарищи мечутся, ищут себя и свое место под солнцем, а некоторые в этих метаниях «ломаются», топят невостребованность и неудовлетворенность в алкоголе, теряют ориентиры, деградируют… Он знал: часто творцы опережали свою эпоху, и их картины получали признание и хорошую цену только после смерти, но это знание мало утешало.
Он устроился на работу, где хорошо платили, целыми днями разрабатывал дизайн всевозможных буклетов, визиток, проспектов, и даже получал от этого определенное удовлетворение, а вот рисовал все меньше и неохотнее. Вдохновение приходило все реже и реже. Работа, дом, телевизор, рутина… Его все чаще посещала мысль: «Разве в этом мое призвание? Мечтал ли я о том, чтобы прожить свою жизнь вот так, «пунктиром», словно это карандашный набросок? Когда же я начну писать свою собственную картину жизни? А если даже и начну – смогу ли? А как же «художник от бога»?». Он понимал, что теряет квалификацию, что превращается в зомби, который изо дня в день выполняет набор определенных действий, и это его напрягало.
Чтобы не сойти с ума от этих мыслей, он стал по выходным отправляться с мольбертом в переулок Мастеров, где располагались ряды всяких творцов-умельцев. Вязаные шали и поделки из бересты, украшения из бисера и лоскутные покрывала, глиняные игрушки и плетеные корзинки – чего тут только не было! И собратья-художники тоже стояли со своими нетленными полотнами, в больших количествах. И тут была конкуренция…
И тут была конкуренция…
Но он плевал на конкуренцию, ему хотелось просто творить… Он рисовал портреты на заказ. Бумага, карандаш, десять минут – и портрет готов. Ничего сложного для профессионала – тут всего и требуется уметь подмечать детали, соблюдать пропорции да слегка польстить заказчику, так, самую малость приукрасить натуру. Он это делал умело, его портреты людям нравились. И похоже, и красиво, лучше, чем в жизни. Благодарили его часто и от души.
Теперь жить стало как-то веселее, но он отчетливо понимал, что это «живописание» призванием назвать было бы как-то… чересчур сильно. Впрочем, все-таки лучше, чем ничего.
Однажды он сделал очередной портрет, позировала ему немолодая длинноносая тетка, и пришлось сильно постараться, чтобы «сделать красиво». Нос, конечно, никуда не денешь, но было в ее лице что-то располагающее (чистота, что ли?), вот на это он и сделал акцент. Получилось неплохо.
– Готово, – сказал он, протягивая портрет тетке. Та долго его изучала, а потом подняла на него глаза, и он даже заморгал – до того пристально она на него смотрела.
– Что-то не так? – даже переспросил он, теряясь от ее взгляда.
– У вас призвание, — сказала женщина. – Вы умеете видеть вглубь…
– Ага, глаз-рентген, — пошутил он.
– Не то, — мотнула головой она. – Вы рисуете как будто душу… Вот я смотрю и понимаю: на самом деле я такая, как вы нарисовали. А все, что снаружи – это наносное. Вы словно верхний слой краски сняли, а под ним – шедевр. И этот шедевр – я. Теперь я точно знаю! Спасибо.
– Да пожалуйста, — смущенно пробормотал он, принимая купюру – свою привычную таксу за блиц-портрет.
Тетка была, что и говорить, странная. Надо же, «душу рисуете»! Хотя кто его знает, что он там рисовал? Может, и душу… Ведь у каждого есть какой-то внешний слой, та незримая шелуха, которая налипает в процессе жизни. А природой-то каждый был задуман как шедевр, уж в этом он как художник был просто уверен!
Теперь его рисование наполнилось каким-то новым смыслом. Нет, ничего нового в технологию он не привнес – те же бумага и карандаш, те же десять минут, просто мысли его все время возвращались к тому, что надо примериться и «снять верхний слой краски», чтобы из-под него освободился неведомый «шедевр». Кажется, получалось. Ему очень нравилось наблюдать за первой реакцией «натуры» – очень интересные были лица у людей.
Кажется, получалось. Ему очень нравилось наблюдать за первой реакцией «натуры» – очень интересные были лица у людей.
Иногда ему попадались такие «модели», у которых душа была значительно страшнее, чем «внешний слой», тогда он выискивал в ней какие-то светлые пятна и усиливал их. Всегда можно найти светлые пятна, если настроить на это зрение. По крайней мере, ему еще ни разу не встретился человек, в котором не было бы совсем ничего хорошего.
– Слышь, братан! – однажды обратился к нему крепыш в черной куртке. – Ты это… помнишь, нет ли… тещу мою рисовал на прошлых выходных.
Тещу он помнил, на старую жабу похожа, ее дочку – постареет, крысой будет, и крепыш с ними был, точно. Ему тогда пришлось напрячь все свое воображение, чтобы превратить жабу в нечто приемлемое, увидеть в ней хоть что-то хорошее.
– Ну? – осторожно спросил он, не понимая, куда клонит крепыш.
– Так это… Изменилась она. В лучшую сторону. Как на портрет посмотрит – человеком становится. А так, между нами, сколько ее знаю, жаба жабой…
Художник невольно фыркнул: не ошибся, значит, точно увидел…
– Ну дык я тебя спросить хотел: можешь ее в масле нарисовать? Чтобы уже наверняка! Закрепить эффект, стало быть… За ценой не постою, не сомневайся!
– А чего ж не закрепить? Можно и в масле, и в маринаде, и в соусе «майонез».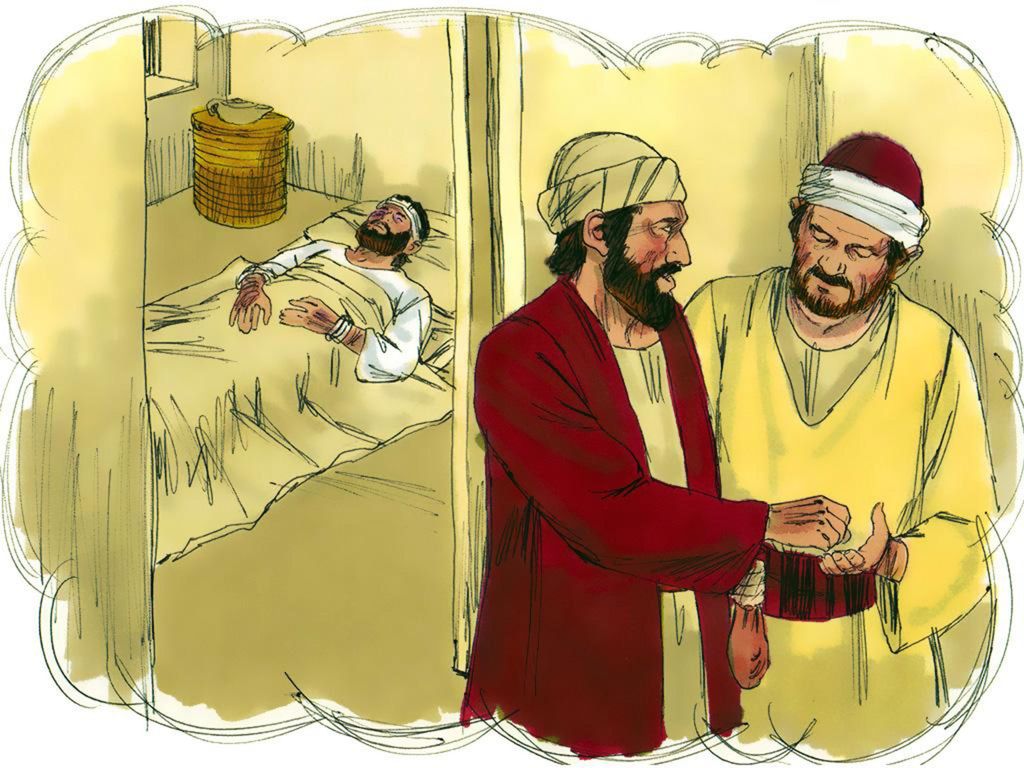 Только маслом не рисуют, а пишут.
Только маслом не рисуют, а пишут.
– Во-во! Распиши ее в лучшем виде, все оплачу по высшему разряду!
Художнику стало весело. Прямо «портрет Дориана Грея», только со знаком плюс! И раз уж предлагают – отчего не попробовать?
Попробовал, написал. Теща осталась довольна, крепыш тоже, а жена его, жабина дочка, потребовала, чтобы ее тоже запечатлели в веках. От зависти, наверное. Художник и тут расстарался, вдохновение на него нашло – усилил сексуальную составляющую, мягкости добавил, доброту душевную высветил… Не женщина получилась – царица!
Видать, крепыш был человеком широкой души и впечатлениями в своем кругу поделился. Заказы посыпались один за другим. Молва пошла о художнике, что его портреты благотворно влияют на жизнь: в семьях мир воцаряется, дурнушки хорошеют, матери-одиночки вмиг замуж выходят, у мужиков потенция увеличивается.
Теперь не было времени ходить по выходным в переулок Мастеров, да и контору свою оставил без всякого сожаления. Работал на дому у заказчиков, люди все были богатые, платили щедро, передавали из рук в руки. Хватало и на краски, и на холсты, и на черную икру, даже по будням. Квартиру продал, купил побольше, да с комнатой под мастерскую, ремонт хороший сделал. Казалось бы, чего еще желать? А его снова стали посещать мысли: неужели в этом его призвание – малевать всяких «жаб» и «крыс», изо всех сил пытаясь найти в них хоть что-то светлое? Нет, дело, конечно, хорошее, и для мира полезное, но все-таки, все-таки… Не было у него на душе покоя, вроде звала она его куда-то, просила о чем-то, но вот о чем? Не мог расслышать.
Хватало и на краски, и на холсты, и на черную икру, даже по будням. Квартиру продал, купил побольше, да с комнатой под мастерскую, ремонт хороший сделал. Казалось бы, чего еще желать? А его снова стали посещать мысли: неужели в этом его призвание – малевать всяких «жаб» и «крыс», изо всех сил пытаясь найти в них хоть что-то светлое? Нет, дело, конечно, хорошее, и для мира полезное, но все-таки, все-таки… Не было у него на душе покоя, вроде звала она его куда-то, просила о чем-то, но вот о чем? Не мог расслышать.
Однажды его неудержимо потянуло напиться. Вот так вот взять – и в драбадан, чтобы отрубиться и ничего потом не помнить. Мысль его напугала: он хорошо знал, как быстро люди творческие добираются по этому лихому маршруту до самого дна, и вовсе не хотел повторить их путь. Надо было что-то делать, и он сделал первое, что пришло в голову: отменил все свои сеансы, схватил мольберт и складной стул и отправился туда, в переулок Мастеров. Сразу стал лихорадочно работать – делать наброски улочки, людей, парка, что через дорогу. Вроде полегчало, отпустило…
Вроде полегчало, отпустило…
– Простите, вы портреты рисуете? Так, чтобы сразу, тут же получить, – спросили его. Он поднял глаза – рядом женщина, молодая, а глаза вымученные, словно выплаканные. Наверное, умер у нее кто-то, или еще какое горе…
– Рисую. Десять минут – и готово. Вы свой портрет хотите заказать?
– Нет. Дочкин.
Тут он увидел дочку – поперхнулся, закашлялся. Ребенок лет шести от роду был похож на инопланетянчика: несмотря на погожий теплый денек, упакован в серый комбинезон, и не поймешь даже, мальчик или девочка, на голове – плотная шапочка-колпачок, на лице – прозрачная маска, и глаза… Глаза старичка, который испытал много-много боли и готовится умереть. Смерть в них была, в этих глазах, вот что он там явственно узрел.
Он не стал ничего больше спрашивать. Таких детей он видел по телевизору и знал, что у ребенка, скорее всего, рак, радиология, иммунитет на нуле – затем и маска, и что шансов на выживание – минимум. Неизвестно, почему и откуда он это знал, но вот как-то был уверен. Наметанный глаз художника, подмечающий все детали… Он бросил взгляд на мать – да, так и есть, она знала. Внутренне уже готовилась. Наверное, и портрет захотела, потому что последний. Чтоб хоть память была…
Наметанный глаз художника, подмечающий все детали… Он бросил взгляд на мать – да, так и есть, она знала. Внутренне уже готовилась. Наверное, и портрет захотела, потому что последний. Чтоб хоть память была…
– Садись, принцесса, сейчас я тебя буду рисовать, — сказал он девочке-инопланетянке. – Только смотри, не вертись и не соскакивай, а то не получится.
Девочка вряд ли была способна вертеться или вскакивать, она и двигалась-то осторожно, словно боялась, что ее тельце рассыплется от неосторожного движения, разлетится на мелкие осколки. Села, сложила руки на коленях, уставилась на него своими глазами мудрой черепахи Тортиллы, и терпеливо замерла. Наверное, все детство по больницам, а там терпение вырабатывается быстро, без него не выживешь.
Он напрягся, пытаясь разглядеть ее душу, но что-то мешало – не то бесформенный комбинезон, не то слезы на глазах, не то знание, что старые методы тут не подойдут, нужно какое-то принципиально новое, нетривиальное решение. И оно нашлось! Вдруг подумалось: «А какой она могла бы быть, если бы не болезнь? Не комбинезон дурацкий, а платьице, не колпак на лысой головенке, а бантики?». Воображение заработало, рука сама по себе стала что-то набрасывать на листе бумаги, процесс пошел.
Воображение заработало, рука сама по себе стала что-то набрасывать на листе бумаги, процесс пошел.
На этот раз он трудился не так, как обычно. Мозги в процессе точно не участвовали, они отключились, а включилось что-то другое. Наверное, душа. Он рисовал душой, так, как будто этот портрет мог стать последним не для девочки, а для него лично. Как будто это он должен был умереть от неизлечимой болезни, и времени оставалось совсем чуть-чуть, может быть, все те же десять минут.
– Готово, – сорвал он лист бумаги с мольберта. – Смотри, какая ты красивая!
Дочка и мама смотрели на портрет. Но это был не совсем портрет и не совсем «с натуры». На нем кудрявая белокурая девчонка в летнем сарафанчике бежала с мячом по летнему лугу. Под ногами трава и цветы, над головой – солнце и бабочки, улыбка от уха до уха, и энергии – хоть отбавляй. И хотя портрет был нарисован простым карандашом, почему-то казалось, что он выполнен в цвете, что трава – зеленая, небо – голубое, мяч – оранжевый, а сарафанчик – красный в белый горох.
– Я разве такая? – глухо донеслось из-под маски.
– Такая-такая, – уверил ее художник. – То есть сейчас, может, и не такая, но скоро будешь. Это портрет из следующего лета. Один в один, точнее фотографии.
Мама ее закусила губу, смотрела куда-то мимо портрета. Видать, держалась из последних сил.
– Спасибо. Спасибо вам, – сказала она, и голос ее звучал так же глухо, как будто на ней тоже была невидимая маска. – Сколько я вам должна?
– Подарок, — отмахнулся художник. – Как тебя зовут, принцесса?
– Аня…
Он поставил на портрете свою подпись и название: «Аня». И еще дату – число сегодняшнее, а год следующий.
– Держите! Следующим летом я вас жду. Приходите обязательно!
Мама убрала портрет в сумочку, поспешно схватила ребенка и пошла прочь. Ее можно было понять – наверное, ей было больно, ведь она знала, что следующего лета не будет. Зато он ничего такого не знал, не хотел знать! И он тут же стал набрасывать картинку – лето, переулок Мастеров, вот сидит он сам, а вот по аллее подходят двое – счастливая смеющаяся женщина и кудрявая девочка с мячиком в руках. Он вдохновенно творил новую реальность, ему нравилось то, что получается. Очень реалистично выходило! И год, год написать – следующий! Чтобы чудо знало, когда ему исполниться!
Он вдохновенно творил новую реальность, ему нравилось то, что получается. Очень реалистично выходило! И год, год написать – следующий! Чтобы чудо знало, когда ему исполниться!
– Творите будущее? – с интересом спросил кто-то, незаметно подошедший из-за спины.
Он обернулся – там стояла ослепительная красавица, вся такая, что и не знаешь, как ее назвать. Ангел, может быть? Только вот нос, пожалуй, длинноват…
– Узнали? – улыбнулась женщина-ангел. – Когда-то вы сотворили мое будущее. Теперь – будущее вот этой девочки. Вы настоящий Творец! Спасибо…
– Да какой я творец? – вырвалось у него. – Так, художник-любитель, несостоявшийся гений… Говорили, что у меня талант от бога, а я… Малюю потихоньку, по мелочам, все пытаюсь понять, в чем мое призвание.
– А вы еще не поняли? – вздернула брови женщина-ангел. – Вы можете менять реальность. Или для вас это не призвание?
– Я? Менять реальность? Да разве это возможно?
– Отчего же нет? Для этого нужно не так уж много! Любовь к людям. Талант. Сила веры. Собственно, все. И это у вас есть. Посмотрите на меня – ведь с вас все началось! Кто я была? И кто я теперь?
Талант. Сила веры. Собственно, все. И это у вас есть. Посмотрите на меня – ведь с вас все началось! Кто я была? И кто я теперь?
Она ободряюще положила ему руку на плечо – словно крылом обмахнула, улыбнулась и пошла.
– А кто вы теперь? – запоздало крикнул он ей вслед.
– Ангел! – обернулась на ходу она. – Благодарю тебя, Творец!
… Его и сейчас можно увидеть в переулке Мастеров. Старенький мольберт, складной стульчик, чемоданчик с художественными принадлежностями, большой зонт… К нему всегда очередь, легенды о нем передаются из уст в уста.
Говорят, что он видит в человеке то, что спрятано глубоко внутри, и может нарисовать будущее. И не просто нарисовать – изменить его в лучшую сторону. Рассказывают также, что он спас немало больных детей, переместив их на рисунках в другую реальность. У него есть ученики, и некоторые переняли его волшебный дар и тоже могут менять мир. Особенно выделяется среди них белокурая кудрявая девочка лет четырнадцати, она умеет через картины снимать самую сильную боль, потому что чувствует чужую боль как свою. А он учит и рисует, рисует… Никто не знает его имени, все называют его просто – Творец. Что ж, такое вот у человека призвание…
А он учит и рисует, рисует… Никто не знает его имени, все называют его просто – Творец. Что ж, такое вот у человека призвание…
Эльфика
4-й альбом «Кисточка в Божьих руках» Песни-притчи 2
Назад
4-й альбом «Кисточка в Божьих руках» Песни-притчи 2
Компакт-диск
Светлана Копылова
Издательство: Аэрокомплекс-сервис
Год издания: 2008. Время звучания 43 мин.
Формат 140 мм х 125 мм, пластмассовая коробка.
Светлана Копылова — стихи, музыка, исполнение.
Александр Ольцман — гитара, мандолина.
Юрий Катешев — звук (студия Василия Богатырева «COSMOSSTUDIO»).
Художник — Иван Шкварок. Фото — Вадим Попов.
1. Писатель и вор
Текст песни
Скачать текст песни
Dm Dm Под землёй глубоко расположен ад, Dm Dm Gm Там в котлах чугунных грешники кипят. Gm Gm7 A7 B Вот уже бесята новых двух ведут: Gm Dm A7 Dm - Плавайте, покуда вас не заберут! Новеньких столкнули в жаркие котлы: Каждому - по пояс серы и смолы.Под одним соседом огонёк сильней - Был в земной он жизни вор и прохиндей. А другой - писатель в жизни был земной. Участи загробной он не ждал такой... Хоть под ним и меньше огонёк горел - Но котёл, однако, тоже закипел. Тут писатель видит: за истёкший срок Под соседом меньше стал вдруг огонёк, Ну, а сам писатель кое-как дышал, Будто кто-то ловко увеличил жар. Время бесконечно в вечности течёт... Огонёк соседа меньше стал ещё. Выглянул писатель, ну а за бортом Полыхает пламя под его котлом. Этого писатель уж не мог стерпеть: - Почему, скажите, должен я кипеть? И явился ангел, и сказал ему: - Объясню, за что ты терпишь столько мук. Не смотри, писатель, что сосед твой - вор, За него родные молят до сих пор, А твои романы, коим нет конца, Снова развращают юные сердца. Бог тебя талантом в жизни наградил, Добрые чтоб чувства в людях ты будил, А твои творенья будят страсти лишь, Оттого теперь, брат, ты в котле кипишь. Дай нам, Боже, помнить на своём пути, Что соблазнам должно в этот мир придти, Но какое горе ожидает нас, Если в мир приходит через нас соблазн!
2. На мосту
Текст песни
Скачать текст песни
Em
Он стоял на средине моста,
C
И решимость в глазах его зрела,
Am
И была не страшна высота –
A7 H
На земле ему всё надоело.
G
И, хоть был он совсем молодой, –
Am D7
Смысла жизни не видел ни в чём он.
G Em
Здесь решил он покончить с собой
C7 H7
И порвать с этой жизнью никчёмной.
Он на воду смотрел с высоты,
И невольно сутулились плечи…
Он сжигал на мосту все мосты,
Как послышалось вдруг: «Добрый вечер».
От внезапности вздрогнув такой,
Обернулся он в то же мгновенье:
Незнакомец стоял за спиной
И просил его дать ему денег.
Растерявшись, с готовностью стал
Он карманы ощупывать тут же,
И, найдя свой бумажник, отдал –
Ведь теперь он ему был не нужен.
Только тот начал вдруг не без слёз
Говорить о каких-то сиротках
И просить, чтоб он деньги отнёс,
Здесь, поблизости, через дорогу.
И готовый минуту назад
С этой жизнью навеки проститься,
Он, поймав умоляющий взгляд,
Сам не понял, как вдруг согласился.
Он, конечно, вернётся потом,
Но сперва отнесёт эти деньги
Тем, кому за последней чертой
Это будет, быть может, спасеньем.
Шёл с моста он, не чувствуя ног,
Стала влажной ладонь отчего-то,
Что сжимала газетный клочок,
На котором был адрес сироток.
И чем дальше он был от моста,
Тем прямей становился как будто…
Он уже не вернётся сюда,
Потому что он нужен кому-то.
3. Бабочка
Текст песни
Скачать текст песни
Am G C Кто звал его «мудрец», кто – «прозорливец», F E Он жил в уединеньи от людей, Am G C Но шли к нему сомненьями делиться F E Иль за советом каждый Божий день.Am G C Он ближнего в беде спешил утешить: F E Подарком или словом подбодрить, Am G C При этом называл себя он грешным F E Am И все гостинцы мог передарить. А по соседству жил монах заблудший, Который всё завидовал ему: Никто не приходил к его лачужке, Не спрашивал, зачем да почему. И вот решил над ним он посмеяться: Поймал на поле бабочку монах, И, усмехнувшись, он спросил у старца, Живая или мёртвая она. Расчет был прост: коль скажет, что живая, - То он её ладонями прижмёт, А мёртвая – так полетит, порхая, Когда монах ладони разомкнёт. «Узнают все, какой он прозорливец», - Ликуя сердцем, предвкушал монах. А старец за монаха помолился И с грустью молвил: «Всё в твоих руках!»
4. Монах
Текст песни
Скачать текст песни
Em D7 G
Он был монах, и Господу служил
Am H7
Всем разумом своим и всей душою,
Em D7 G
Он в монастырской келье тихо жил,
Am H7
И счастлив был судьбой своей такою. G D7 Em
Она была красива и умна,
G D7 Em
И на него смотрела, пламенея,
Am H7
Настигла страсть монаха, как волна,
H H7
И он, забыв про всё, пошёл за нею.
Но пылкость чувств со временем прошла,
И начал вспоминать свою он келью,
Где жизнь в молитве радостно текла,
Как горный ручеёк за райской дверью.
Где лики освещались от лампад,
И где любовью к Богу сердце пело…
А нынче был он сам себе не рад,
И сердце его ныло и болело.
На небо он не смел и глаз поднять,
Себя ничтожным чувствуя безмерно,
И только имя Божье повторять,
Закрыв глаза, он пробовал несмело.
Однажды мимо дома, где он жил,
Монахи по дороге шли неспешно.
Он улыбнулся им, что было сил,
Хотя душа скорбела безутешно.
И вдруг монахи, шаг замедлив свой,
Пред ним склонились в трепете и страхе:
Увидели они, как Дух святой
С небес спускался к бывшему монаху.
G D7 Em
Она была красива и умна,
G D7 Em
И на него смотрела, пламенея,
Am H7
Настигла страсть монаха, как волна,
H H7
И он, забыв про всё, пошёл за нею.
Но пылкость чувств со временем прошла,
И начал вспоминать свою он келью,
Где жизнь в молитве радостно текла,
Как горный ручеёк за райской дверью.
Где лики освещались от лампад,
И где любовью к Богу сердце пело…
А нынче был он сам себе не рад,
И сердце его ныло и болело.
На небо он не смел и глаз поднять,
Себя ничтожным чувствуя безмерно,
И только имя Божье повторять,
Закрыв глаза, он пробовал несмело.
Однажды мимо дома, где он жил,
Монахи по дороге шли неспешно.
Он улыбнулся им, что было сил,
Хотя душа скорбела безутешно.
И вдруг монахи, шаг замедлив свой,
Пред ним склонились в трепете и страхе:
Увидели они, как Дух святой
С небес спускался к бывшему монаху.
Как белый голубь крылья распростёр
Над головою жалкой и несчастной,
И благодати неземной шатёр
Накрыл его, обдав волною счастья.
И понял он, что может быть прощён,
И что Господь всегда-всегда был рядом,
И страсть, которой был он ослеплён,
Не увлечёт его в пучину ада.
Ушли монахи на свои труды,
Он следом шёл, едва тая дыханье,
Чтоб принести достойные плоды
Глубокого, как море, покаянья.
Он был монах…5. Морские звезды
Текст песни
Скачать текст песни Dm Gm
Любил один философ размышлять,
A Dm
Гуляя в предрассветный час у моря,
Dm Gm
О смысле жизни, радости и горе,
A
О том, зачем нам жить и умирать.
Dm C Dm
Однажды ночью был большой прилив –
Dm C F
На пляже он хозяйничал без меры -
Gm C F
Но наступил отлив, и вдруг весь берег
Gm A7 Dm
Усыпан стал плеядой звёзд морских. И звёзды, оказавшись без воды,
Под солнцем обречённо высыхали,
Прощаясь с жизнью, горестно вздыхали
И ждали неминуемой беды.
Философ думал: так и наша жизнь
В одно мгновенье может оборваться.
Наверное, не стоит и пытаться
Разгадывать по звёздам высший смысл.
Вдруг видит он: какой-то мальчуган
Бросает в море гибнущие звёзды,
И на глазах у мальчугана слёзы…
Вот так придумал – звёздам помогать!
- Глупыш, ведь ты не сможешь всех спасти!
Тут высказал своё философ мненье, -
Твои попытки – что они изменят?
Здесь миллионы этих звёзд морских!
Спасатель обернулся на ходу,
Задумавшись лишь на одно мгновенье:
- Для этой – очень многое изменят, -
И бросил в море новую звезду.
- Вот для чего наверно стоит жить, -
Подумал вдруг растроганный философ.
Быть может, создал Бог морские звёзды,
В ребёнке чтобы жалость пробудить.
И звёзды, оказавшись без воды,
Под солнцем обречённо высыхали,
Прощаясь с жизнью, горестно вздыхали
И ждали неминуемой беды.
Философ думал: так и наша жизнь
В одно мгновенье может оборваться.
Наверное, не стоит и пытаться
Разгадывать по звёздам высший смысл.
Вдруг видит он: какой-то мальчуган
Бросает в море гибнущие звёзды,
И на глазах у мальчугана слёзы…
Вот так придумал – звёздам помогать!
- Глупыш, ведь ты не сможешь всех спасти!
Тут высказал своё философ мненье, -
Твои попытки – что они изменят?
Здесь миллионы этих звёзд морских!
Спасатель обернулся на ходу,
Задумавшись лишь на одно мгновенье:
- Для этой – очень многое изменят, -
И бросил в море новую звезду.
- Вот для чего наверно стоит жить, -
Подумал вдруг растроганный философ.
Быть может, создал Бог морские звёзды,
В ребёнке чтобы жалость пробудить.6. Брошенный камень
Текст песни
Скачать текст песни
Em Была у молодого человека Am H7 Заветная и давняя мечта.Em Он с нею засыпал, смыкая веки, Am D7 И просыпался с нею он всегда. G Em7 Мечтал он накопить побольше денег Am6 H И новенький купить автомобиль. Em G6 C7 И вот однажды он на самом деле Am6 H7 Em Заветную мечту осуществил. Автомобиль блестящий и красивый Бесшумно по дороге проезжал, Как вдруг рукой мальчишеской ретивой В машину камень брошенный попал. Водитель видел этих негодяев: Они ему махали перед тем. И, сдав назад, он вдруг услышал: «Дядя! Простите, дядя, я скажу, зачем… Мой брат упал, он в инвалидном кресле, Кювет глубок, и не хватает сил… А вы, как все, проехали бы если Я камнем вам в капот не запустил». Водитель растерялся: «Вы давно тут?» - Мы выбраться не можем три часа, А брат мой повредил серьёзно ногу, К тому же, надвигается гроза… Он подошёл к кювету и увидел – И сердце сжалось, словно дало сбой – В больших глазах мальчишки-инвалида Таилась немальчишеская боль.

И вызволив ребёнка в одночасье, На мысли вдруг такой себя поймал, Что, как сейчас, он не был даже счастлив, Когда свою машину покупал. Была у молодого человека Заветная и давняя мечта. Он с нею засыпал, смыкая он веки, И просыпался с нею он всегда. Но вмятину не стал чинить он, чтобы Урок с мальчишкой не был им забыт: Что если ты не хочешь слышать шёпот, - В тебя однажды камень полетит.
7. Кисточка в Божьих руках
Текст песни
Скачать текст песни
Em D G
Жил на свете маляр, и любил провожать он закаты,
G C D
Наблюдая, как прячется солнце за быстрой рекой,
D H7 Em
И ещё он мечтал стать художником, чтобы когда-то
Am H7 Em
Отразить на холсте мир прекрасный и разный такой.
Очень скоро судьба оказалась к нему благосклонной:
Знаменитым художником стал не в одной он стране:
За огромные деньги картины шли с аукционов,
С каждым днём возрастая всё больше и больше в цене. Но однажды красивую девушку встретил художник,
Взор смешливый и алый румянец пленили его,
И решил, что её отпустить ни за что он не сможет,
Если не передаст на холсте этот образ живой.
Он её рисовал вдохновенно и самозабвенно.
И портрет получился таким, что сравнения нет.
Посмотрела она и сказала вдруг проникновенно:
- Да, хорошая кисточка! Очень удачный портрет!
Рассмеялся художник наивности девушки этой:
- Да при чём же тут кисточка? Дело - в таланте моём!
Я и чёрным углём нарисую все степени света
И белилами выкрашу ночь на холсте на своём!
Улыбнувшись, сказала она, не смущаясь нимало:
-Мне казалось, что Вы - тоже кисточка в Божьих руках,
И премудрый Творец, чтобы мы красоту понимали,
Через Ваши полотна Свой мир открывает для нас.
У художника, точно свеча, вдруг погасла улыбка,
И, чеканя слова, он сказал, раздражённо слегка:
- Нет, творец - это я! Слышишь, - я! И большая ошибка -
Думать, будто бы я - это кисточка в чьих-то руках!
Вновь он краски смешал и сменил полотно на мольберте,
И рукою уверенной снова стал делать мазки,
Но уже через час был он самым несчастным на свете:
На холсте видел он лишь работу бездарной руки.
Но однажды красивую девушку встретил художник,
Взор смешливый и алый румянец пленили его,
И решил, что её отпустить ни за что он не сможет,
Если не передаст на холсте этот образ живой.
Он её рисовал вдохновенно и самозабвенно.
И портрет получился таким, что сравнения нет.
Посмотрела она и сказала вдруг проникновенно:
- Да, хорошая кисточка! Очень удачный портрет!
Рассмеялся художник наивности девушки этой:
- Да при чём же тут кисточка? Дело - в таланте моём!
Я и чёрным углём нарисую все степени света
И белилами выкрашу ночь на холсте на своём!
Улыбнувшись, сказала она, не смущаясь нимало:
-Мне казалось, что Вы - тоже кисточка в Божьих руках,
И премудрый Творец, чтобы мы красоту понимали,
Через Ваши полотна Свой мир открывает для нас.
У художника, точно свеча, вдруг погасла улыбка,
И, чеканя слова, он сказал, раздражённо слегка:
- Нет, творец - это я! Слышишь, - я! И большая ошибка -
Думать, будто бы я - это кисточка в чьих-то руках!
Вновь он краски смешал и сменил полотно на мольберте,
И рукою уверенной снова стал делать мазки,
Но уже через час был он самым несчастным на свете:
На холсте видел он лишь работу бездарной руки. Он полотна менял, снова смешивал краски, но тщетно!
Он катался по полу, ломал свои кисти, и выл…
Он был самым несчастным и самым бездарным на свете,
Словно это не он гениальным художником был.
Жил в убогой каморке когда-то известный художник.
Он любил повторять, глядя вдаль на застывший закат,
Что всё бренно на этой земле, и что люди не больше,
И что люди не больше, чем кисточки в Божьих руках.
Он полотна менял, снова смешивал краски, но тщетно!
Он катался по полу, ломал свои кисти, и выл…
Он был самым несчастным и самым бездарным на свете,
Словно это не он гениальным художником был.
Жил в убогой каморке когда-то известный художник.
Он любил повторять, глядя вдаль на застывший закат,
Что всё бренно на этой земле, и что люди не больше,
И что люди не больше, чем кисточки в Божьих руках.8. Леонардо да Винчи
Текст песни
Скачать текст песни
Em Am
Леонардо да Винчи расписывал фреску –
H Em
Это «Тайная Вечеря» фреска была,
Em Am
Но закончить не мог по причине он веской:
H Em
Никакая модель ему не подошла.
E7 E7
Стал искать он натурщиков для воплощенья
E7 Am
В Иисусе – добра, а в предателе – зла,
H7 Em
Но художник не знал, принимая решенье –
A7 H Em
Это невероятная трудность была. Глядя пристально в лица случайных прохожих,
Леонардо всё больше надежду терял,
Но однажды, на пеньи церковного хора
В юном певчем он образ Христа увидал.
И художник, в свою пригласив мастерскую,
Сделал несколько ярких набросков с него.
Скоро фреску дополнил портретный рисунок,
Где Спаситель был выписан, точно живой.
Но другого натурщика, как ни старался,
Отыскать Леонардо три года не мог,
Незаконченным образ Иуды остался,
Кардинал торопил, и давно вышел срок.
Но художник искал его не для забавы –
По трущобам и по захолустьям ходил -
И однажды увидел он в сточной канаве
Человека, чей образ ему подходил.
Он валялся оборванный, пьяный, заблудный…
Леонардо помощников тут же позвал.
И, как времени не было делать этюды,
Отвести его прямо в собор приказал.
Он выписывал, кистью искусно касаясь.
Все пороки, какими натурщик дышал:
Себялюбие, злобу, гордыню и зависть,
И на фреске натурщик себя вдруг узнал.
Глядя пристально в лица случайных прохожих,
Леонардо всё больше надежду терял,
Но однажды, на пеньи церковного хора
В юном певчем он образ Христа увидал.
И художник, в свою пригласив мастерскую,
Сделал несколько ярких набросков с него.
Скоро фреску дополнил портретный рисунок,
Где Спаситель был выписан, точно живой.
Но другого натурщика, как ни старался,
Отыскать Леонардо три года не мог,
Незаконченным образ Иуды остался,
Кардинал торопил, и давно вышел срок.
Но художник искал его не для забавы –
По трущобам и по захолустьям ходил -
И однажды увидел он в сточной канаве
Человека, чей образ ему подходил.
Он валялся оборванный, пьяный, заблудный…
Леонардо помощников тут же позвал.
И, как времени не было делать этюды,
Отвести его прямо в собор приказал.
Он выписывал, кистью искусно касаясь.
Все пороки, какими натурщик дышал:
Себялюбие, злобу, гордыню и зависть,
И на фреске натурщик себя вдруг узнал. В тот же миг протрезвев, фреску взглядом окинув,
Он воскликнул с тоской и испугом в глазах:
-Я однажды уже видел эту картину!
Это было примерно три года назад…
И спросил Леонардо: «Как это возможно?»
И натурщик вздохнул: «Я был счастлив тогда…
Помню, в храме я пел, и какой-то художник
Написал с меня образ Иисуса Христа».
В тот же миг протрезвев, фреску взглядом окинув,
Он воскликнул с тоской и испугом в глазах:
-Я однажды уже видел эту картину!
Это было примерно три года назад…
И спросил Леонардо: «Как это возможно?»
И натурщик вздохнул: «Я был счастлив тогда…
Помню, в храме я пел, и какой-то художник
Написал с меня образ Иисуса Христа».9. Богатый или бедный
Текст песни
Скачать текст песни
Em D
Отец семьи богатой в деревню сына взял:
C H7
Пусть мальчик жизнь увидит без иллюзий.
Em D
Ему хотелось, чтобы сынишка осознал,
C H7
Насколько могут бедными быть люди.
G Am6
Они пробыли сутки в семье у бедняка,
Em H7
Отец его спросил по возвращеньи,
G Am6
Понравилось ли сыну, и понял ли он, как
Em H7
Бедны бывают люди в наше время. - Понравилось, конечно! – сынишка отвечал,
Отец спросил: «Чему ты научился?»
- Таких людей хороших я, папа, не встречал,
И как они богаты – удивился:
У нас одна собака, у них – четыре пса,
У нас бассейн, у них – морская бухта,
У нас есть сад, у них же – бескрайние леса,
И нас мне стало жалко почему-то…
Не потому, что светят в саду нам фонари,
А их просторы звёзды освещают…
Они готовы Бога за всё благодарить,
А нам всегда чего-то не хватает…
Теперь я знаю, папа, насколько мы бедны!
Отец, когда слова услышал эти, -
Лишился дара речи и явно приуныл,
Но так и не нашёлся, что ответить.
А мой отец, касаясь вопросов бытия,
Одной молитве учит неизменно:
Благодарю за то, что имею в жизни я
И трижды – за всё то, что не имею!
- Понравилось, конечно! – сынишка отвечал,
Отец спросил: «Чему ты научился?»
- Таких людей хороших я, папа, не встречал,
И как они богаты – удивился:
У нас одна собака, у них – четыре пса,
У нас бассейн, у них – морская бухта,
У нас есть сад, у них же – бескрайние леса,
И нас мне стало жалко почему-то…
Не потому, что светят в саду нам фонари,
А их просторы звёзды освещают…
Они готовы Бога за всё благодарить,
А нам всегда чего-то не хватает…
Теперь я знаю, папа, насколько мы бедны!
Отец, когда слова услышал эти, -
Лишился дара речи и явно приуныл,
Но так и не нашёлся, что ответить.
А мой отец, касаясь вопросов бытия,
Одной молитве учит неизменно:
Благодарю за то, что имею в жизни я
И трижды – за всё то, что не имею!10. Последний лист (по мотивам рассказа О’ Генри)
Текст песни
Скачать текст песни
Dm Dm Gm
Она была больна, она была одна, и осень за окном…
Gm Gm Dm
Ей лишь была видна кирпичная стена, увитая плющом. D7 D7 Gm
И листья с каждым днём редели всё на нём, слетая плавно вниз…
B A7 Dm
Казалось ей тогда: она умрёт, когда слетит последний лист…
Врач тихо произнёс нерадостный прогноз подруге, уходя…
А листья на плюще почти опали все от ветра и дождя…
-Вы знаете, сосед, подруге двадцать лет, и смерть её близка…
Сказала о плюще, рыдая на плече соседа-старика.
Она пришла к больной, и та, смотря в окно, сказала: «Вот и всё!
Один остался лист, и, хоть жестока жизнь, я жить хочу ещё!»
Подруга ей в ответ: «Ты будешь жить сто лет! Не думай о плохом!
Ещё придёт весна, и снова вся стена украсится плющом!»
Вот день прошёл, другой, и пятый, и шестой, снежок уж первый лёг…
А листик всё висел и явно не хотел в последний свой полёт…
И, глядя на него, больная кризис свой смогла, пережила…
Узнает пусть сосед, и радуются все, что девушка жива!
Стучала в дверь к нему сказать о том ему подруга много раз.
D7 D7 Gm
И листья с каждым днём редели всё на нём, слетая плавно вниз…
B A7 Dm
Казалось ей тогда: она умрёт, когда слетит последний лист…
Врач тихо произнёс нерадостный прогноз подруге, уходя…
А листья на плюще почти опали все от ветра и дождя…
-Вы знаете, сосед, подруге двадцать лет, и смерть её близка…
Сказала о плюще, рыдая на плече соседа-старика.
Она пришла к больной, и та, смотря в окно, сказала: «Вот и всё!
Один остался лист, и, хоть жестока жизнь, я жить хочу ещё!»
Подруга ей в ответ: «Ты будешь жить сто лет! Не думай о плохом!
Ещё придёт весна, и снова вся стена украсится плющом!»
Вот день прошёл, другой, и пятый, и шестой, снежок уж первый лёг…
А листик всё висел и явно не хотел в последний свой полёт…
И, глядя на него, больная кризис свой смогла, пережила…
Узнает пусть сосед, и радуются все, что девушка жива!
Стучала в дверь к нему сказать о том ему подруга много раз. Но вот другой сосед сказал, что его нет, что умер он вчера.
Зачем – никто не знал – всю ночь он рисовал лист жёлтый на стене.
Старик промёрз, промок, и в то же утро слёг, но счастлив был вполне.
Она была больна, она была одна, и осень за окном…
Ей лишь была видна кирпичная стена, увитая плющом.
И листья с каждым днём редели всё на нём, слетая плавно вниз…
И лишь один висел, и падать не хотел – последний жёлтый лист.
Но вот другой сосед сказал, что его нет, что умер он вчера.
Зачем – никто не знал – всю ночь он рисовал лист жёлтый на стене.
Старик промёрз, промок, и в то же утро слёг, но счастлив был вполне.
Она была больна, она была одна, и осень за окном…
Ей лишь была видна кирпичная стена, увитая плющом.
И листья с каждым днём редели всё на нём, слетая плавно вниз…
И лишь один висел, и падать не хотел – последний жёлтый лист. 11. У моря (по мотивам рассказа В. Солоухина «Девочка на урезе моря»)
Текст песни
Скачать текст песни
Em C Am6 На южном побережье у самого у моря H H7 Em Черешни-абрикосы в саду росли одном. Em C Am6 И в зарослях душистых стоял, купаясь в зорях, H H7 Em H7 Em Увитый чайной розой, уютный светлый дом. E7 Am Хозяин и хозяйка там комнату сдавали, Am D7 G H7 И каждый год на лето ту комнату снимал E7 Am Один москвич-писатель, чьи книги издавали, D7 G H7 А он, живя у моря, те книги сочинял.Доверчиво однажды обмолвилась хозяйка, Что впору нянчить внуков, да вот зачали тут… Избавиться бы надо, а он спросил: «Не жалко?» И тяжко та вздохнула: «Соседи засмеют! Нам с мужем слишком поздно! И взрослые уж дети! А если вдруг родится какой-нибудь урод?» – И, всхлипнув, убежала. Заканчивалось лето, И он уехал с мыслью вернуться через год. А там – дела, заботы, издательства, проблемы… Лет через шесть вернулся он в дом знакомый свой. Вдруг видит на крылечке девчушку-пятилетку С уродливой мордашкой и заячьей губой. И вспомнил, как спросил он в тот вечер: «А не жалко?» И как блестели слёзы у женщины в глазах. Он взглядом виноватым искал сейчас хозяйку, Заранее готовясь, чтоб повернуть назад. Девчушка вдруг сказала: «А мама у подруги. Ты поиграй со мною, пока она придёт!». И он спросил чуть слышно: «А мама тебя любит?» Невольно взгляд бросая на некрасивый рот. «Бывают разве мамы, которые не любят?» – Подняв дугою бровки, хихикнула она.
Писатель напряжённо скривил в улыбке губы, И всё сильней казалась ему его вина. Когда пришла хозяйка, он в кухне умывался, И замер вдруг, услышав: «Дочурка, это я! Ну, как, моё ты солнце, ну, как, моё ты счастье? Не слишком ли скучала, красавица моя?» В ответ её дочурка залепетала что-то, И та, всплеснув руками, вскричала: «Боже мой! Где новенькое платье? Да знаешь ли ты, кто он!? Да он тебе как крёстный иль папка твой второй!» На южном побережье у самого у моря Черешни-абрикосы в саду росли одном. И в зарослях душистых стоял, купаясь в зорях, Увитый чайной розой, уютный светлый дом.
12. Дупло
Текст песни
Скачать текст песни
Em Am6 H7 Em - Кругом - одна несправедливость, - так говорил один старик. Em Am6 H7 Em И перед ним, взглянув пытливо, Господень ангел вдруг возник.Am Dm G Am6 - Молил ты Господа, - сказал он, - открыть тебе Его дела: F H7 C H7 Зачем одни живут в печали, другие же - не знают зла. И вот, повёл посланник Бога его далёко за село: Там был источник у дороги и дерево с большим дуплом. - Сиди, мой друг, в дупле, покуда я не вернусь, и наблюдай: Сюда приходит много люда, ты лишь себя не выдавай. И ангел словно растворился… Старик залез в дупло и ждал. Вдруг видит он: остановился богатый путник на привал. Сел на ковёр, порезал сала, достал набитый кошелёк И долго золото считал он, жуя просаленный кусок. Когда богач, напившись чаю, собрал оставшийся паёк, То не заметил, как случайно он обронил свой кошелёк. Старик в дупле сидит и видит: ушёл богач, пришёл другой: Одежда скромная по виду, в котомке - хлебушек с водой. Платочек расстелил на травке, водичкой хлебушек запил… Увидев кошелёк, так рад был, что даже шёл куда - забыл.
Домой отправился, довольный… Старик же всё в дупле сидит. Глядит: идёт дорогой дольней бедняк в лохмотьях - жалкий вид. Но не успел ещё бедняга омыть в источнике чело, - Вернулся тут богач и нагло стал требовать свой кошелёк. И находясь в порыве злости, его безжалостно он бил… Упал бедняк на камень острый и тихо дух свой испустил. Но не найдя своей пропажи, богач бежал - и был таков! Старик в дупле заплакал даже, как вдруг явился ангел вновь. Спросил его: «Ну, что ты видел?» - «Несправедливость лишь одну! Невыносимо, ангел, видеть мне безнаказанной вину!» - Теперь, старик, меня послушай, - сказал он, свой рассказ начав, - Нашедший кошелёк - был лучшим когда-то другом богача. Но тот богач был слишком жадным, он хитрым и коварным был, И вот при помощи обмана он друга напрочь разорил. А тот бедняк и сам когда-то ограбил брата и убил, Но всё, покаявшись, раздал он и смерть такую же просил.
И внял Господь его молитвам: дал мученический венец. И тут старик в слезах воскликнул: «Небесный справедлив Отец!»
Иван Айвазовский. Сказка о волне и художнике
Айвазовский. Сказка о волне и художнике
Жила-была Волна. Ей очень нравилось жить в огромном Море. На рассвете она становилась розовой и нежилась в тёплых лучах солнца, а в лунные ночи подставляла свою спинку под холодные серебряные лучи. В штормовые дни она была такой же темно-серой, как и низкие тучи, и на голове у неё появлялась шапка белой сердитой пены. Но больше всего ей нравилось тёплым летом плескаться у самого берега, ворошить разноцветные камешки, поиграть с рыбкой или щекотать за ножку маленького ребёнка.
Однажды Волна увидела на берегу маленького кудрявого мальчика. Он не боялся ее и готов был играть с нею почти в любую погоду. А иногда он брал скрипку, и она в его руках пела такие красивые и печальные мелодии, что Волна затихала и, слушая его, чуть слышно плескалась у берега. Он смотрел на неё как-то особенно, и Волне хотелось быть для него ещё более красивой, чем прежде.
Он смотрел на неё как-то особенно, и Волне хотелось быть для него ещё более красивой, чем прежде.
Мальчик был армянином, и его называли то Ованесом, то Ваней, потому что в городе Феодосии, где он жил, было много и русских, и армян, и греков.
— Я нарисую тебя! — сказал однажды мальчик.
— Попробуй! — засмеялась Волна, качая своей головой в маленькой пенной шапочке. Она-то знала, что это невозможно.
А потом мальчик куда-то пропал. Тихо подползая к берегу и слушая разговоры людей на берегу, Волна узнала, что Ваня уехал далеко-далеко на север, в Петербург, учиться на художника. Ей захотелось посмотреть на этот город. И она тоже отправилась в долгое путешествие. Сколько художников пытались уже сделать это! Но едва они успевали прикоснуться кистью к холсту, как Волна меняла свой облик и цвет, становилась другой. А у мальчика не было даже красок. И рисовал он углём на беленой стене. Волна слышала издалека, как сердито ругали его за это.
Петербург оказался огромным городом. Большие каменные здания стояли по берегам, закованным в гранитные набережные, так что Волна стала маленькой и серой, как все.
Большие каменные здания стояли по берегам, закованным в гранитные набережные, так что Волна стала маленькой и серой, как все.
Она плескалась у ступенек, которые поднимались к Академии художеств, смотрела на древнейших каменных Сфинксов, привезённых из Египта, удивлялась белым ночам, когда все видно, как днём…
Она часто видела своего друга, который теперь стал совсем взрослым, и теперь его все звали только Иваном или даже Иваном Константиновичем. И он узнал ее и часто-часто стоял на берегу, наблюдая за нею.
Но Волне было тесно в каменных берегах, ей хотелось опять выйти на морской простор. Она обрадовалась, когда услышала, что Иван отправляется в путешествие, и решила сопровождать его. Волна ещё не знала, что путешествий будет очень много. Но даже если бы и знала, это не испугало бы ее: она не могла устать или состариться.
Иван Айвазовский плыл через моря и океаны на больших судах с парусами, а Волна следовала за ним: они уже не могли жить друг без друга. На многих морях, реках и даже океанах любовался на Волну художник.
— Я нарисую тебя! — говорил он.
— Попробуй! — смеялась Волна.
Она по-прежнему была уверена, что ее, такую изменчивую, такую живую, нельзя показать на неподвижной картине. Она гордилась этим, и все-таки ей было немножко грустно.
— Где же твои кисти и краски? — насмешливо журчала Волна.
— Сейчас они мне не нужны, — отвечал художник. — Мне надо хорошенько запомнить тебя, а потом, в мастерской, я закрою глаза, и вновь тебя увижу и сумею изобразить на картине!
И вот Волна все чаще стала слышать, как восхищаются люди Иваном Айвазовским. Они говорили, что он самый лучший «маринист» и никто так, как он, не умеет изобразить море в лунную ночь или на рассвете. Она поняла, что маринист — это художник, который умеет писать море.
Больше всего говорили о картине «Девятый вал». Волна знала, что это означает. Во время штормов в разных морях она часто слышала, что люди считают волны и почему-то думают, что девятая — самая страшная и сильная. Наконец, она тоже увидела эту огромную картину. И даже затихла, остановилась на несколько минут: так она была удивлена.
И даже затихла, остановилась на несколько минут: так она была удивлена.
В центре картины, в бушующем море, художник изобразил обломок громадной мачты, за которую цеплялось несколько людей. Это все, что осталось от большого и казавшегося таким прочным корабля. Наверное, всю ночь их носило посреди безбрежного моря. И вот, наконец, наступил рассвет. Встаёт солнце, хотя его почти не видно сквозь водяную пыль. Вместе с солнцем и теплом появилась надежда на то, что буря вскоре утихнет. Но это только надежда… Над головами крошечных людей поднимается новый девятый вал, огромная волна…
И Волна… узнала в ней себя. На картине она была такая же могучая, просвечивающая на солнце зелёным и голубым цветом, с капельками брызг и хлопьями пены, такая же красивая и… живая!
— Ну, хорошо, — сказала Волна художнику. — Ты кое-чему научился, я не спорю. Но почему все время яркие краски, закаты, рассветы да лунные ночи?.. В нарядной одежде любой покажется красавцем. А ты попробуй написать меня просто, без всяких украшений. Эта задача будет потруднее.
Эта задача будет потруднее.
— Да, — отвечал художник. — Ты права. И я научусь этому.
К этому времени Айвазовский опять переехал в Феодосию. Волна видела, как он построил дом, как в своей большой мастерской с огромными окнами писал все новые и новые картины. Бывало даже, что на большую картину ему требовался всего лишь один день.
И вот однажды он пришёл на берег и сказал: — Мне кажется, я сумел. Посмотри. Я назвал эту картину «Чёрное море».
Долго смотрела на себя Волна. Вот она, рядом со своими подругами, мерно поднимаясь и опускаясь, бежит по необозримому морскому простору.
Художник сумел показать, как бездонна ее глубина. Ничего, кроме моря и неба. Нет ярких красок. Но есть настоящая красота. И торжественность.
— Да, ты сумел…— тихо прошелестела Волна. — Спасибо тебе. И она благодарно провела своей мокрой ладонью по его ногам.
А потом Иван Айвазовский перестал приходить на берег.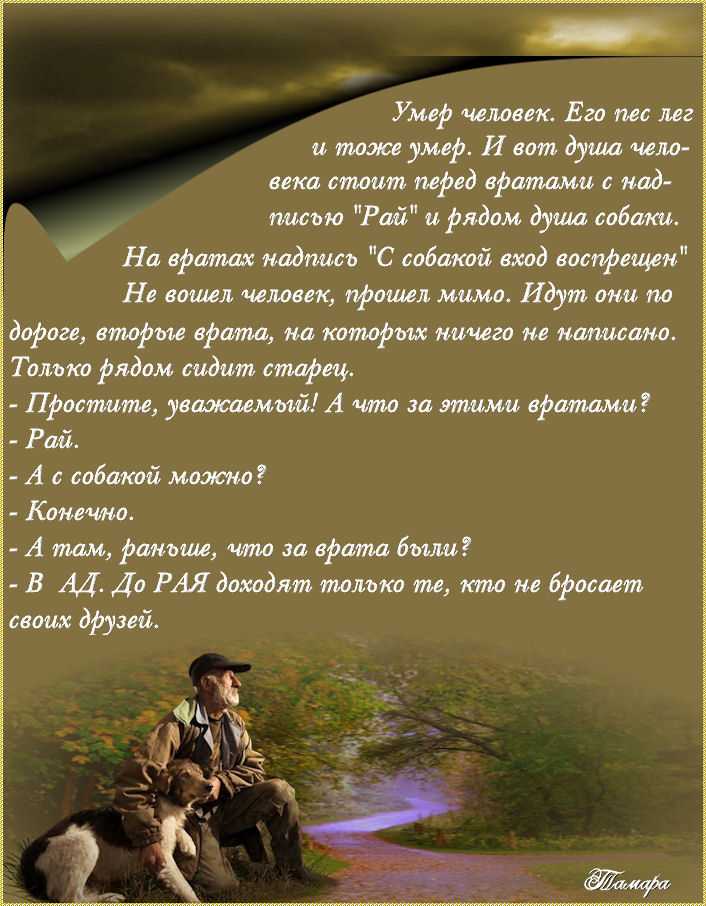 И Волна загрустила без своего художника. Люди на берегу говорили между собой, будто он умер. Они говорили ещё, что он был очень добрым человеком, что помогал многим людям, особенно тем, кто хотел стать художником. И что он написал за свою жизнь шесть тысяч картин. Волна не знала, сколько это — «шесть тысяч», но понимала, что очень много, потому что все повторяли это с большим удивлением.
И Волна загрустила без своего художника. Люди на берегу говорили между собой, будто он умер. Они говорили ещё, что он был очень добрым человеком, что помогал многим людям, особенно тем, кто хотел стать художником. И что он написал за свою жизнь шесть тысяч картин. Волна не знала, сколько это — «шесть тысяч», но понимала, что очень много, потому что все повторяли это с большим удивлением.
Но, спустя ещё много-много дней, все изменилось. Опять осветились огни его дома и мастерской и каждый день много людей приходили туда и надолго оставались в доме. Потом они шли на берег, и Волна слышала, как люди, с улыбкой наблюдая за ней, говорили друг другу, как замечательно Айвазовский сумел передать ее красоту. И Волне было очень приятно.
И сам художник однажды опять появился перед своим домом и больше уже не уходил. Он сидел на высоком постаменте, держа в руке кисть и глядя в море. Его бронзовое лицо улыбалось, и Волне казалось, что он, как и прежде, разговаривает с ней.
Текст Галины Ветровой.
Презентация
В комплекте:
1. Презентация — 35 слайдов, ppsx;
2. Звуки музыки:
Бетховен и звуки океана — Концерт для скрипки, mp3;
3. Статья — сопровождающий документ, docx.
НА СВЕТ ДАЛЕКИХ ВСТРЕЧ . Притча о встречном [Рассказы, воспоминания, эссе]
Есть встречи несостоявшиеся, насущные для души, ее «интимного завета», наше воображение неослабно тянется к ним, у нас к ним жгучий интерес, мы слышим диалоги, слова, которые сказались, не были сказаны, могли бы сказаться, мы испытываем чувство личного присутствия, исподволь направляем каждую встречу к согласию, взаимопониманию, любви, дружбе, к открытости и доверию, радуемся, как некогда в детстве, миру, согласию и любви между родителями, сердце трудится в полную силу, и такова духовная концентрированность этих встреч — состоявшихся не в истории, в нашем чувстве, — что они становятся личным душевным событием-состоянием…
Встреча Пушкина и Лермонтова, Толстого и Достоевского, Блока и Толстого, Цветаевой и Блока, Мопассана и Марии Башкирцевой… Великие встречи!
Но есть и другие встречи, пусть и состоявшиеся, но с годами все более обрастающие сложными чувствами и сожаления, и досады — словно они вовсе не состоялись, воображению, сердцу уже не найти в них ни тепла, ни отрады, ни надежды на великую встречу в грядущем. Мы не можем их оставить такими, мы их «корректируем», уже из сегодня направляем по собственному — не произвольному — желанию, из внутреннего убеждения, к удаче!
Мы не можем их оставить такими, мы их «корректируем», уже из сегодня направляем по собственному — не произвольному — желанию, из внутреннего убеждения, к удаче!
Константин Симонов, встречавшийся с Буниным в послевоенные годы, впоследствии писал об этих встречах, о самом Бунине («Из заметок об И. А. Бунине»): «В моем ощущении он был человеком глубоко и последовательно антидемократичным по всем своим повадкам… Это был человек, не только внутренне не принявший никаких перемен, совершенных в России Октябрьской революцией, но еще и в душе никак не соглашавшийся с самой возможностью таких перемен, все еще не привыкший к ним как историческому факту».
С этой характеристикой авторитетного нашего писателя, мелькающей в статьях и литературоведческих работах о Бунине, все труднее ныне солидаризоваться читателю…
Впрочем, Симонов в самом начале как бы оговаривается — «в моем ощущении». Ощущение, мол еще не впечатление, не мнение, тем более не убеждение. Ему, мол, присущи и неопределенность, и мимолетность, даже случайность и ошибочность. Оговаривается Симонов и в конце этой же первой фразы. Мол, распространяется сказанное лишь на «повадки», не на творчество, не на какие-то гражданские или общественные поступки. Затем главная оговорка — «он был человеком», «это был человек»: речь, мол, лишь о свойствах человеческих, о характере человека, а не о самом художнике…
Ему, мол, присущи и неопределенность, и мимолетность, даже случайность и ошибочность. Оговаривается Симонов и в конце этой же первой фразы. Мол, распространяется сказанное лишь на «повадки», не на творчество, не на какие-то гражданские или общественные поступки. Затем главная оговорка — «он был человеком», «это был человек»: речь, мол, лишь о свойствах человеческих, о характере человека, а не о самом художнике…
В этих оговорках, думается, не просто желание смягчить резкость укора, но посильное для писателя Симонова стремление быть предельно объективным к великому писателю Бунину. И все же характеристика осталась довольно резкой, категоричной, главное, далекой от объективности…
Более того, как цитата в статьях и литературоведческих работах, где авторы, из желания снять с симоновской характеристики Бунина кажущуюся им «нечеткость», упускают симоновские оговорки, слова эти звучат еще более категорично, безоговорочно, превращая «ощущение» в убеждение!
Так поступает, например, и Олег Михайлов в своей книге о Бунине «Строгий талант», проникнутой любовью и уважением к великому писателю. Но и здесь симоновский смягченный «вердикт» цитируется без слов «в моем ощущении», в силу чего, возможно, помимо воли автора «Строгого таланта», «вердикт» звучит «приговором»!..
Но и здесь симоновский смягченный «вердикт» цитируется без слов «в моем ощущении», в силу чего, возможно, помимо воли автора «Строгого таланта», «вердикт» звучит «приговором»!..
Можно вообразить себе и Бунина в момент этой встречи, можно составить себе представление и о том, как, в свою очередь, «высокий гость оттуда» отразился «в ощущении» самого Бунина, какие гость вызвал в нем сложные чувства, мысли, переживания, в нем, Бунине, живом, уже в преклонном возрасте, классике нашей литературы. Тем более что речь шла о его возвращении на родину, о которой он всю жизнь в эмиграции думал, жил ею, писал о ней, — она воистину питала его творческие и жизненные силы! Бунин всегда представлял себя возвращающимся на родину, но то был лишен этой возможности, то сам себя ее лишал. И опять писатель не смог сказать окончательное «да» или «нет»… Опять он при этом испытывал труднейшие сомнения, противоречивые чувства. И пусть он потом будет писать Симонову — «дорогой собрат!» — в момент встречи перед Буниным предстал не просто гость, видный, весьма популярный в годы войны, советский писатель, а прежде всего представитель новой России, почти незнакомой уже родины, ее литературы. И Бунин тут, надо полагать, меньше всего был обычным гостеприимным хозяином и величаво-язвительным собеседником, каким его знали его многочисленные гости. Откинувшись к спинке кресла (как бы прицеливаясь прямым корпусом, бодро приподнятой головой с породистым бритым лицом и «сквозными» светлыми глазами), он весь превратился в наблюдателя, пронзительного и беспощадного.
И Бунин тут, надо полагать, меньше всего был обычным гостеприимным хозяином и величаво-язвительным собеседником, каким его знали его многочисленные гости. Откинувшись к спинке кресла (как бы прицеливаясь прямым корпусом, бодро приподнятой головой с породистым бритым лицом и «сквозными» светлыми глазами), он весь превратился в наблюдателя, пронзительного и беспощадного.
Из встречи с таким человеком, каким был Бунин, в столь чрезвычайных обстоятельствах, вообще, вероятно, трудно было вынести цельное, непосредственное — истинное — впечатление. Беседа была взаимно трудной…
В тот первый послевоенный год перед Буниным предстал не просто литературный собрат, а, казалось, сам лик судьбы, предстал человек той далекой родины, которую он уже не знал или знал лишь из многолетних эмигрантских, газетных и устных, наветов. Перед Буниным предстал писатель-большевик, исполненный духа партийности, и был он высок, статен, с небольшой и сухой («Не порода ли?»), уже тронутой сединами головой («Не потомок ли аристократа — и снова наверху?»), прославленный на войне полковник и поэт («А ну-ка, а ну-ка, что в тебе, скажем, от Дениса Давыдова?»), подтянутый, вся грудь в орденских знаках («Явлена личная храбрость — или все у них там ныне «парады от ранга»?»), суховато-корректный, без рисовки, но, чувствуется, себе на уме и очень цепкий в жизни («Занятный, видно, новый советский тип?»), сдержан в жесте и слове, но сразу овладевает инициативой разговора («Чувство хозяина?. . Фразы все законченные, как в протокол… Школа коллективизма!.. Даже интонации — не дифференцированные, все одного уровня, все вроде «цвета хаки»… Неужели все теперь там — такие?..»).
. Фразы все законченные, как в протокол… Школа коллективизма!.. Даже интонации — не дифференцированные, все одного уровня, все вроде «цвета хаки»… Неужели все теперь там — такие?..»).
И по этому впечатлению примерно Бунину надлежало все увязать, соединить свою родину, единственную, из былого, всю из «ретроспекций», главное, из души, с новой, незнакомой, «интегрировать», как говорится, их в своем цельном чувстве. Обычно абстрактные, в таком трудном наполнении предстали время и даль!..
Перед Симоновым был живой, непревзойденный Бунин, поджарый, словно высушенный годами, с морщинистой шеей («Всегда лезут наперед досадные мелочи, но как их не заметить, тем более писателю?»), открытый и неприступный, человек так агрессивно-незащищенно оберегающий в себе великого художника («На всех смотрит так, будто уверен, что приходят лишь затем, чтоб отнять у него самое большое сокровище души, которое он отдать не желает»), стариковски-дряблая, из короткого рукава рубашки, ладонью вниз, вытянута на столе рука, готовая для скупого жеста — чуть повертываемой кистью («И этой рукой написаны «Деревня», «Лика», «Жизнь Арсеньева»!»), голова — точно гравирована, ничего лишнего, короткие седые волосы, чуткие уши, и глаза — глаза выцветшей сини, разверстые и бездонные — сквозные («У Льва Толстого были такие же!») — бунинские глаза. Они вбирают собеседника, погружают в свою пучину, растворяют, и он становится полностью понятным — «почти на химическом уровне»… Такой художник — и такое мелкое упрямство («Закосневшее, эмигрантско-обидчивое, автоматизм, даже атавизм, ущемленной гордыни и уязвленного характера…»), которое Симонов никак не мог сообразить, не мог счесть великим чувством, соразмерным классику нашей литературы, которое так мешало энтузиазму его в миссии — вернуть Бунина Родине…
Они вбирают собеседника, погружают в свою пучину, растворяют, и он становится полностью понятным — «почти на химическом уровне»… Такой художник — и такое мелкое упрямство («Закосневшее, эмигрантско-обидчивое, автоматизм, даже атавизм, ущемленной гордыни и уязвленного характера…»), которое Симонов никак не мог сообразить, не мог счесть великим чувством, соразмерным классику нашей литературы, которое так мешало энтузиазму его в миссии — вернуть Бунина Родине…
Бунин вежливо, к уважительной корректности гостя, тянул что-то про четверть века эмиграции, про то, что все же он привык к Франции, он улыбался при этом, подчеркивая необязательность, неокончательность своих слов, ведь писал и еще будет писать потом, что никогда Франция не станет ему родиной, что она может быть одна лишь у такого человека, как он… Симонов, получив разрешение и все же не закурив, пыхтел своей, пусть и нераскуренной, фронтовой трубкой — привычка, так вроде думается лучше, — умолкал, уходя в себя.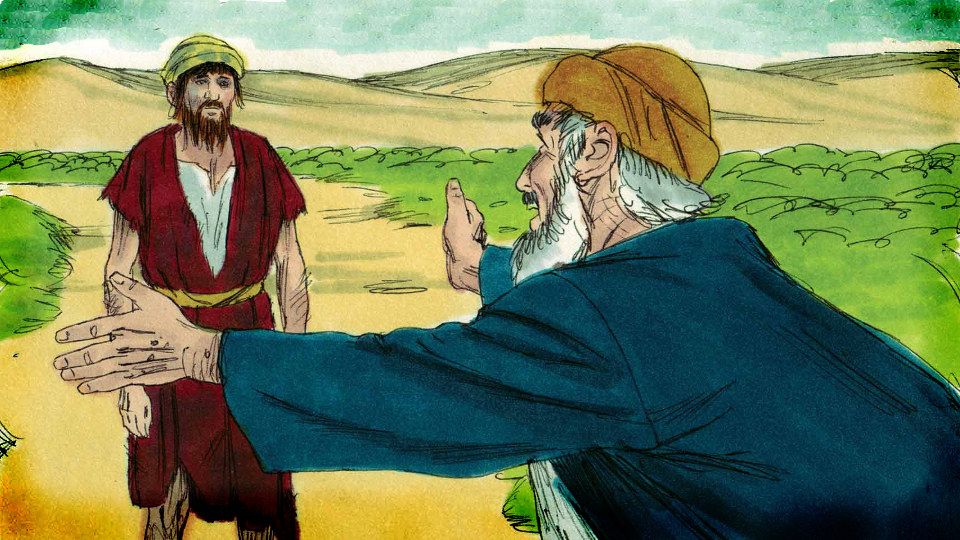 Молчал, думая о своем, и Бунин. Вера Николаевна тревожно озиралась то на гостя, то на мужа, благо этому помогало большое зеркало в углу гостиной, и становилось ясно, что ничего еще не решено…
Молчал, думая о своем, и Бунин. Вера Николаевна тревожно озиралась то на гостя, то на мужа, благо этому помогало большое зеркало в углу гостиной, и становилось ясно, что ничего еще не решено…
Два писателя старались понять друг друга, что их роднило, что отчуждало? Что было сказано, что осталось недомолвленным? Что образовало незримый барьер перед полным взаимопониманием? Пусть читатель сам судит, что здесь в действительности было общим, что предстало не общим, если все же не пришло взаимопонимание и согласие. Или, наконец, были здесь две уважительные правды, понимаемые сторонами, и, стало быть, каждый с печалью сознавал невозможность столь желанного для обеих сторон исхода?..
И в этом искреннем молчании сторон — не один ли из множества драматичных моментов нашей духовной истории?..
Симонов писал в 1973 году — все о той же встрече во Франции после войны, летом 1946 года, — как всегда, писал с горестным сожалением: «Бунина мысль о поездке домой и пугала и соблазняла».
И здесь тоже, вне сомнения, симоновское слово поставлено строго обдуманно. Понятно — «соблазняла», но вряд ли понятно — «пугала». Всякая догадка об этом слове останется догадкой. Но, думается, два факта не могли не прийти на память Бунину. Во-первых, возвращение на родину восемь лет назад Куприна, успевшего прожить на родине неполный год… В отличие от Бунина, Куприн сразу уехал от революции, Бунин, ища себе в ней прибежище, уехал лишь три года спустя. Смерть Куприна по возвращении на родину Бунин всегда помнил, не забыл и сейчас, в беседе с гостем «оттуда». Вероятно, даже подумалось: «Родились с Куприным в один год, он первый удрал от революции, первым снова удрал от эмиграции и первым помер…» Во-вторых, не мог Бунин не взять в соображение и трагическую судьбу Марины Цветаевой, ее мужа.
Исследователь творчества Бунина А. Н. Дубовиков писал: «Возвращению на родину Бунина препятствовали объективные трудности — болезни и преклонный возраст, гордость, не позволявшая ему ехать на родину, «как Куприн», чтобы только умереть там, страх утратить свою художническую «независимость», наконец, естественная инерция, выработанная двадцатипятилетним эмигрантским существованием. Но немалую роль в этом сыграли и трудности объективные — то давление со стороны правых кругов эмиграции, в том числе со стороны некоторых старых друзей».
Но немалую роль в этом сыграли и трудности объективные — то давление со стороны правых кругов эмиграции, в том числе со стороны некоторых старых друзей».
Из всего этого ряда причин, думается, все же главным было: боязнь утраты своей художнической независимости и свободы творчества, не вписаться своим своеобразием в многообразие советской литературы, которое Бунину конечно же представлялось наоборот, неким узкотенденциозным и «строгорежимным однообразием», где главное: система «табу», «указаний» и «образцовых шаблонов»… Перед этим представлением все остальные причины — при его жажде вернуться — «хочу домой» — оставались именно «естественной инерцией», которую Бунину достало бы сил одолеть. Что же касается давления «старых друзей», оно и вовсе преувеличенное. Были, разумеется, люди, которые простодушно могли считать себя друзьями, даже «старыми друзьями», писателя Бунина, но он был одинок, сам об этом всегда писал в эмиграции. Писал всегда об одиночестве, непонятности. Главное, не тот был Бунин человек и писатель, на которого можно было «давить»! Тем более в таком важнейшем вопросе. Независимость, может, самая крупная черта и в характере писателя…
Независимость, может, самая крупная черта и в характере писателя…
Интересная сравнительная характеристика Бунина и А. Толстого дана в работах Ю. А. Крестинского. Автор находит и впрямь много общего в происхождении, воспитании, жизненной и литературной судьбе двух писателей, много общего в их взглядах на творчество, в отношении к революции, до того как пути и взгляды их резко разошлись. «Характер Бунина гораздо противоречивей, чем у Толстого, сочетанием противоположных черт. С отзывчивостью, интересом к людям, их жизни, способностью к прочной дружбе в натуре Бунина всегда сочетались, а порой превалировали эгоцентризм, замкнутость, чрезмерная гордость, желчная раздражительность, повышенный критицизм, переходящий в сарказм, а любовь к жизни омрачалась болезненно неотступными мыслями о смерти, что окрашивало его творчество тональностью безнадежности. Негативные черты характера Бунина обострились переживаниями первых лет эмиграции, и некоторые из них даже гиперболизировались».
Хочется думать — такой «гиперболизацией» было и обвинение Бунина в «антидемократичности» и прочих подобных «анти»! Несколько размашистой, менее «прицельной», а то и просто кое-где отвлеченной представляется зато характеристика Толстого: «У Толстого было не только прекрасное физическое, но и моральное здоровье. Его натуре свойственны общительность, веселость, жизнелюбие, способность даже злое смягчать юмором, не покидающее его чувство радости бытия, постоянная вера в счастливое будущее…»
И уж совсем трудно согласиться с выводом исследователя, что: «Эти различия человеческих натур во многом помогают объяснению того, почему жизненные дороги двух писателей разошлись. Вывод о закономерности, приводящей при прочих близких социальных условиях оптимиста-сангвиника на путь прогрессивного развития человеческой мысли, а пессимиста-холерика — к консервативному, основанный только на примере Бунина и Толстого, может показаться спорным. Но, думается, найдется в истории немало других имен, чье отношение характера мировоззрения и политического кредо подтвердят этот вывод…»
Но «в истории» найдется еще куда больше имен, опровергающих эту фрейдистскую — если не хуже того — категорию! Если бы все было так просто, особенно применительно к художникам. Увы (а может, к счастью), не так-то легко уловить законы соотношения типа характера человеческого, нервно-психического склада, типа темперамента — и художнического мира писателя, его мировоззрения и даже… «политического кредо»! Долго, вероятно, еще пребудет такой неуловимость сия… Художники — уникальные миры, познающиеся не сравнениями и сопоставлениями подобного рода. Тем более что, строго говоря, ни один великий поэт не был тем, «предпочтительным» для автора «сравнения», «жизнерадостным сангвиником»! И великий поэт Бунин не исключение… Уже в который раз в разговоре о нем упускается такая малость — как Поэт, единый, во всем, как целое и законченное. «Автономизм», представленный здесь Бунину-прозаику, как видим, тут же приводит к ошибкам. Помимо всех общечеловеческих сложностей — еще такая, самая трудная есть сложность: поэт! Разве что одним поэтом и дано здесь иной раз приблизиться к истине. Лишь озаренностью постичь мир озарений.
Увы (а может, к счастью), не так-то легко уловить законы соотношения типа характера человеческого, нервно-психического склада, типа темперамента — и художнического мира писателя, его мировоззрения и даже… «политического кредо»! Долго, вероятно, еще пребудет такой неуловимость сия… Художники — уникальные миры, познающиеся не сравнениями и сопоставлениями подобного рода. Тем более что, строго говоря, ни один великий поэт не был тем, «предпочтительным» для автора «сравнения», «жизнерадостным сангвиником»! И великий поэт Бунин не исключение… Уже в который раз в разговоре о нем упускается такая малость — как Поэт, единый, во всем, как целое и законченное. «Автономизм», представленный здесь Бунину-прозаику, как видим, тут же приводит к ошибкам. Помимо всех общечеловеческих сложностей — еще такая, самая трудная есть сложность: поэт! Разве что одним поэтом и дано здесь иной раз приблизиться к истине. Лишь озаренностью постичь мир озарений.
На беду, в том же первом послевоенном году случилось досадное недоразумение с Гослитиздатом — издание однотомника Бунина было приостановлено, затем, как сказано у Симонова, «выступление Бунина «враждебного нам характера», отпавший вопрос об издании и полная безнадежность на возвращение».
И снова воображение возвращается к лету 1946 года, когда встретились два русских писателя — словно две эпохи из истории России предстали воочию друг против друга. И как резки были здесь контрасты во всем!.. Две эпохи, которые — в великом родстве России — хотели узнать друг друга, признавали и не признавали свое родство, жаждали коснуться сердцем… Знать, даже такое родство — без общностей в человеческой судьбе, без разделенных радостей и печалей, надежд и одолений — угасает, как костер во чистом поле, оставленный разошедшимися спутниками.
В каждой из сторон при всем взаимном великодушии, терпимости, усилии понять другую сторону, чтоб прийти к обоюдному согласию и решению, как нам кажется, все же не было (ни в одной из сторон — некий рок ожесточившегося XX века, разобщающего даже художников?.. неполная свобода «я», растворившегося в «мы», где так разительны и мощь и слабость его?..) того, что так прекрасно, спасительно и в высшей форме проявляется — по сердечному порыву, но творчеству подобно — между друзьями в их любви, в ее человеческих и духовных перипетиях, когда двум «я» каждый раз, на экстреме разрыва, радостно дано снова стать одним единосущным «я» искренности и доверия. Великий аналог жизни и творчества — любовь, она побеждает недоверие, отчужденность, страх, побеждает безоглядностью, вдохновением, самоотрешенностью…
Великий аналог жизни и творчества — любовь, она побеждает недоверие, отчужденность, страх, побеждает безоглядностью, вдохновением, самоотрешенностью…
Два поэта (оба пишущие прозу, отчего не перестали быть — поэтами) роковым образом вели речь «не на своем языке». Разговор ни для одного не был разговором поэта с поэтом, ни один не обрел доступа к душе другого. Ведь лишь поэзия и единственная логика для поэта!..
Бунин — певец любви, Бунин — поэт и прозаик и всегда Поэт — всегда был огромной — поэтической — любящей личностью, любовь «женская и вселенская» была основой его мироощущения, была «сокрытый двигатель его», «дефицит» ее делал его «угрюмцем» (что другой великий поэт просил нас «простить»!), но что называлось иначе — «индивидуалистом», «эгоистом» и прочими заштампованными эпитетами и мертвыми терминами, ничего не говорящими о Поэте…
Бунин, певец любви, был отзывен лишь непосредственному сердечному порыву, с миром людей он хотел общаться не просто деловито, тактично, уважительно, а в — любви, его любящее сердце поэта — «оттого, что не любить оно не может» — в нелюбви ожесточалось, в непонимании замыкалось в отчуждении, практичность, рассудочность, деловитость причиняли нравственные муки, дипломатичность взрывала, все было «непроходимых мук собор», складывая душевное состояние непрерывной печали (не это ли в Бунине называли нудным и проходным словом — («пессимист»?), укрепляли сознание ценности призвания Поэта (что в Бунине называли другим скучным и проходным словом «фаталист»…).
Отчаянье и одиночество кинуло когда-то поэта Бунина на эмигрантский, явно не свой, корабль, это отлилось в формулу — «испугался революции». Но испуг — чувство, не политическое убеждение, в котором словно старались убедить поэта его критики, не мировоззрение. Не было это и неприятием революции политиком, почти в качестве которого долго был атакован поэт, нуждавшийся в «подходе к Поэту», в общении на уровне души поэта…
Роковым образом, из непонимания статуса и суверенности поэзии, из недооценки ее как духовного явления непреходящего значения для всех времен, «конкретное время» подчас обходится с поэтом недоброжелательно и запальчиво, поэт в свою очередь забывает о статусе и суверенности поэзии, опускаясь до бранчливых инвектив: «В заботы суетного света малодушно погружен». Нечто подобное было и в судьбе Бунина, которым, до самой смерти, кажется, не оставлен был тот, чужой ему эмигрантский корабль. Пушкинский — затем и блоковский — вопрос к вдохновению: «Куда ж нам плыть?» — как ни странно, перед Буниным как бы не вставал…
Вероятно, нужен был нежданный праздник для сердца поэта, какая-то радостная весть извне в душу — и Бунин, так страстно любивший Россию, горячим чувством прильнул бы к ее материнской груди! Не укоры, не политграмоту, не казенщину, не «выяснения отношений» ждал он всю жизнь — а именно такого праздника, ждал на своей вилле в Грассе, ждал на своей квартире на улице Жака Оффенбаха в Париже… Еще раньше ждал на даче Ковалевского, забытый всеми в Одессе. Разумеется, революции было тогда не до Бунина, она отбивалась из последних сил, истекая кровью, от мира корысти и гнета, от мирового «сатаны нетворчества». К революции сами пришли Блок и Маяковский, Бунин, с его природным демократизмом, оказавшись вне революции, возомнил ее враждебной себе, творчески чуждой!.. Его следовало бы оградить от хаоса, холода и голода, ночных грабежей, от бесконечных смен правительств, от трудного девятнадцатого года в Одессе, от бандитской «архиреволюционности», от анархистского максимализма патрулей…
Разумеется, революции было тогда не до Бунина, она отбивалась из последних сил, истекая кровью, от мира корысти и гнета, от мирового «сатаны нетворчества». К революции сами пришли Блок и Маяковский, Бунин, с его природным демократизмом, оказавшись вне революции, возомнил ее враждебной себе, творчески чуждой!.. Его следовало бы оградить от хаоса, холода и голода, ночных грабежей, от бесконечных смен правительств, от трудного девятнадцатого года в Одессе, от бандитской «архиреволюционности», от анархистского максимализма патрулей…
Мнительному, нервному, ранимому Бунину, его «эмоциональному эгоцентризму» все это казалось гибелью России, не было кому помочь выстоять — Красная Армия только наступала на Одессу. Власть столько раз менялась в городе, переходя из рук в руки (ни к одной Бунин не проявил ни сочувствия, ни понимания), что уже и от «большевистской власти» ничего он не ждал больше… Потом долгие годы и революция, и контрреволюция будут жить в бунинской чувственной памяти художника единым кошмаром, единым образом хаоса, связанным все же «с революцией»… Это было похоже на многолетнее непроходящее оцепенение, из которого вырвать писателя могло разве что чудо.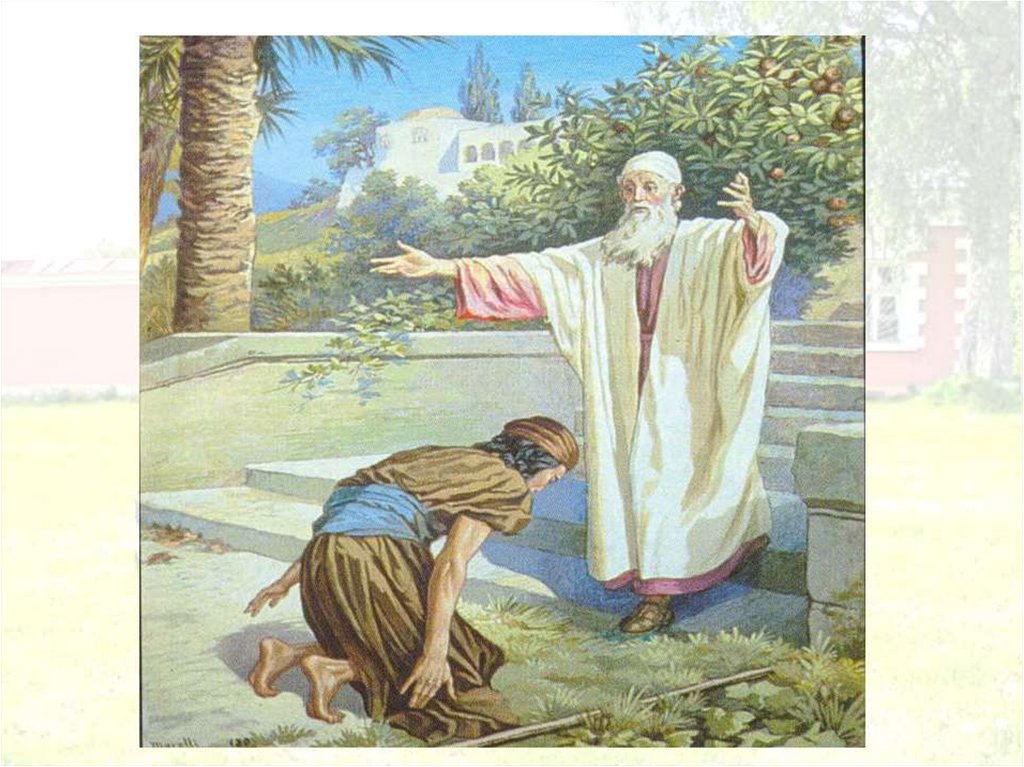 И подобно самому образу поэзии, гриновской Ассоль, у моря, в чуждой ей Каперне, и поэт Бунин, у моря, в Грассе, одинокий, среди чужих, ждал своих алых парусов судьбы… Каким оно, рукотворное чудо, должно было предстать из встречи?.. Не будем фантазировать, да и не утешает это в запоздалости. Не будем и затаивать мысль, что, возможно, Симонов все же был недостаточно красноречив, что в его беседах с Буниным не слишком манящими всплывали алые паруса далекой родины поэта… Мы нисколько не сомневаемся, что Симоновым как раз было сделано все необходимое, во многом, вероятно, на свой страх и риск, наверно, без «высшего разрешения». На письмо А. Толстого с просьбой разрешить Бунину вернуться, сданное в экспедицию Кремля 18.06.41 — за три дня до войны, может в связи с войной, ответа не было. Правда, был после войны Указ Президиума Верховного Совета, разрешивший эмигрантам вернуться; но и тогда Бунин оставался «особым эмигрантом»…
И подобно самому образу поэзии, гриновской Ассоль, у моря, в чуждой ей Каперне, и поэт Бунин, у моря, в Грассе, одинокий, среди чужих, ждал своих алых парусов судьбы… Каким оно, рукотворное чудо, должно было предстать из встречи?.. Не будем фантазировать, да и не утешает это в запоздалости. Не будем и затаивать мысль, что, возможно, Симонов все же был недостаточно красноречив, что в его беседах с Буниным не слишком манящими всплывали алые паруса далекой родины поэта… Мы нисколько не сомневаемся, что Симоновым как раз было сделано все необходимое, во многом, вероятно, на свой страх и риск, наверно, без «высшего разрешения». На письмо А. Толстого с просьбой разрешить Бунину вернуться, сданное в экспедицию Кремля 18.06.41 — за три дня до войны, может в связи с войной, ответа не было. Правда, был после войны Указ Президиума Верховного Совета, разрешивший эмигрантам вернуться; но и тогда Бунин оставался «особым эмигрантом»…
Не кто-нибудь — Маркс сказал: «Поэты нуждаются в ласке».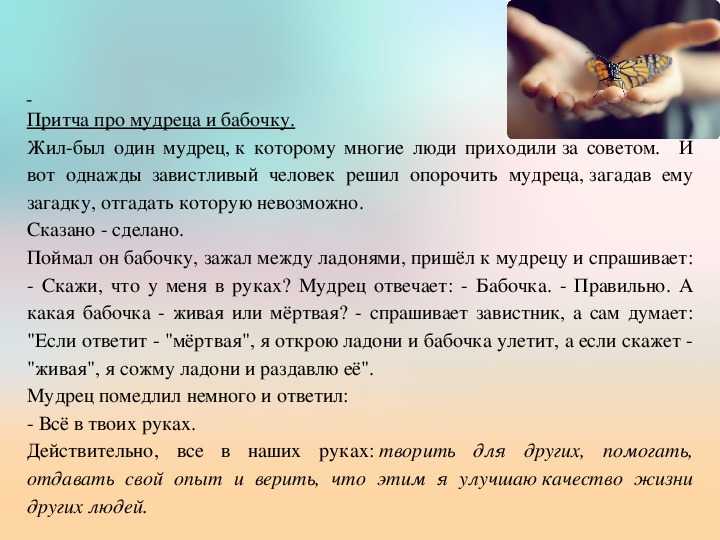 И здесь Марксу достало прозорливости. Будучи убежденным, что преображение мира возможно лишь революционным путем, средствами вооруженного восстания трудящихся, Маркс понимал насущность в невсеобщности отношения к поэту, ратовал за уважительное и бережное доверие к его личности, к его слову. Маркс и в жизни так относился к Гейне, который как поэт не раз давал Марксу повод быть названным и «антидемократичным», и даже, как здесь, «глубоко и последовательно антидемократичным во всех своих повадках». Но Маркс знал природу явления — Поэт — и к подобным досадным определениям не прибегал!.. Между тем каждого почти поэта характеризует некая «невзрослость характера», «детскость поведения», ранимость, нуждающаяся скорей в защите, чем в укорах, ведь все это — основа свежести восприятия поэтом окружающего мира. Дельвиг, например, называл Пушкина — «дитя Пушкин», имея в виду ранимость и мнительность его, власть над ним непосредственного чувства. Сколько таких примеров в его короткой и великой жизни! Достаточно одного примера — заяц, перебежавший дорогу, заставляет поэта отказаться от побега из самодержавной России, из заточения в Михайловском! Одно великодушное слово могло поэта растрогать до слез, равно как другое, обидное или даже воображаемо обидное слово решительно вело его к смертельному барьеру!.
И здесь Марксу достало прозорливости. Будучи убежденным, что преображение мира возможно лишь революционным путем, средствами вооруженного восстания трудящихся, Маркс понимал насущность в невсеобщности отношения к поэту, ратовал за уважительное и бережное доверие к его личности, к его слову. Маркс и в жизни так относился к Гейне, который как поэт не раз давал Марксу повод быть названным и «антидемократичным», и даже, как здесь, «глубоко и последовательно антидемократичным во всех своих повадках». Но Маркс знал природу явления — Поэт — и к подобным досадным определениям не прибегал!.. Между тем каждого почти поэта характеризует некая «невзрослость характера», «детскость поведения», ранимость, нуждающаяся скорей в защите, чем в укорах, ведь все это — основа свежести восприятия поэтом окружающего мира. Дельвиг, например, называл Пушкина — «дитя Пушкин», имея в виду ранимость и мнительность его, власть над ним непосредственного чувства. Сколько таких примеров в его короткой и великой жизни! Достаточно одного примера — заяц, перебежавший дорогу, заставляет поэта отказаться от побега из самодержавной России, из заточения в Михайловском! Одно великодушное слово могло поэта растрогать до слез, равно как другое, обидное или даже воображаемо обидное слово решительно вело его к смертельному барьеру!. .
.
Общение с поэтом не может быть буднично всеобщим, мало ему быть тактичным, ему подобает быть творческим, из труда души: «Поэты нуждаются в ласке!»
И все почему-то кажется, что в той встрече-беседе (неважно, что их было несколько; Бунин их потом назовет — «дружескими» — и ни единого недружественного слова в адрес собеседника и писателя Симонова!) было больше осторожности и политичности, чем должно быть (первый послевоенный год явился и одним из вершинных взлетов так называемого культа личности…), но не было праздника духовной искренности, тепла доверия, самоотреченной открытости, не было порыва духовной любви! Общение с поэтом может быть лишь творческим!.. Да и один ли Бунин испытывал сомнения? Не испытывал ли и Симонов — в свой черед — еще более серьезные сомнения, взяв на свой страх и риск устройство человеческой и писательской судьбы так много пережившего Бунина?.. В те годы так мало зависело от одних добрых пожеланий пусть и такого видного писателя, как Симонов!. . И эти сомнения нужно было прятать от собеседника… И не главным ли были эти монологи про себя? Ситуация из драматичнейших.
. И эти сомнения нужно было прятать от собеседника… И не главным ли были эти монологи про себя? Ситуация из драматичнейших.
Между тем даже такой сдержанный, душевно-сокровенный человек, как Чехов, друг Бунина, умел всегда — зная свойства своего характера, равно как знал и высокую эмоциональность друга-поэта Бунина, — создавать в общении с ним атмосферу открытости, искренности, задушевности! Замкнутый и грустный, страдающий от болезни, задумчивый Чехов становился шутливым, обаятельно-приязненным, щедрым на сердечное внимание к другу-поэту, к его жизни. Как никто, Чехов умел создавать атмосферу творческого общения, особенно применительно к Бунину, которого знал, любил, от кого много ждал в литературе. Непосредственность и непринужденность рождали, в свою очередь, ту духовность общения, которую исследователи пытаются прозреть в своих книгах и статьях, где имена двух гениальных поэтов — Чехова и Бунина — рядом…
Да, вопрос не в том, какие слова говорились или не говорились, даже не в энтузиазме, который был или не был, речь об атмосфере — духе — тех встреч. Один миг такой духовной выси — на открытии памятника Пушкину — в Москве, в 1880 году, кинул в объятия, со слезами растроганности, при восторженных аплодисментах переполненного зала двух долго враждовавших крупнейших русских писателей — Достоевского и Тургенева… Этот же великий миг побудил всех-всех русских писателей немедленно — пешком — отправиться из Москвы в Ясную Поляну к Толстому (весть о болезни Толстого помешала этому)!..
Один миг такой духовной выси — на открытии памятника Пушкину — в Москве, в 1880 году, кинул в объятия, со слезами растроганности, при восторженных аплодисментах переполненного зала двух долго враждовавших крупнейших русских писателей — Достоевского и Тургенева… Этот же великий миг побудил всех-всех русских писателей немедленно — пешком — отправиться из Москвы в Ясную Поляну к Толстому (весть о болезни Толстого помешала этому)!..
Не слишком ли казенно-сухой, официально-деловитой была встреча двух писателей — двух разных России, двух разных эпох? Ясно одно — из встречи этой, из приглашения вернуться на родину Буниным так и не услышан был зов Родины. И об этом остается лишь сожалеть…
Так без логических доказательств, из внутреннего чувства возникает представление-убеждение, что все, и встреча, и беседа, и, главное, результат, — все могло быть иным! Воображение ретроспективно «моделирует» такие встречи, при тех же объективных обстоятельствах, рисует другого, третьего писателя вместо Симонова. Скажем, Федина, или Твардовского, или Паустовского? К слову сказать, творчество их Бунин знал и высоко почитал…
Скажем, Федина, или Твардовского, или Паустовского? К слову сказать, творчество их Бунин знал и высоко почитал…
Тридцать три года, больше половины писательской жизни, Бунин — в эмиграции, далеко от Родины, без своего читателя, без своей писательской среды, далеко от своего народа и родного языка — служил Родине, народу, его слову, почти сам это не сознавая! Беспримерный это подвиг служения среди жизни одинокой, забытой, полной мук и лишений, страстотерпства и подвижничества… Когда-то, в тридцатых, Бунина навестил гость из России, это был голландский концессионер, и в объективности рассказа о новой России можно было вроде не усомниться. Зашел разговор и об Алексее Толстом, о котором гость сказал, что живет он, после возвращения на родину из эмиграции, отлично, у него своя дача, прекрасная обстановка. Бунина эта весть разволновала.
Почему же не вернулся Бунин после встречи с Толстым в середине тридцатых? Думается, помимо всех сложных соображений, были еще такие: Толстой, которого Бунин считал легкомысленным, но ловким человеком, «умеющим всюду устраиваться» (в отличие от Бунина — «всюду не умеющего устраиваться»), не мог служить Бунину примером собственной будущей судьбы… Кто ж его приглашал? Россия? Ее неуполномоченные?. .
.
Затем, на той же встрече, в середине тридцатых, Толстой говорил Бунину, как бы выдавая желаемое за действительное: «В Москве тебя бы колоколами встретили… Как тебя любят, как тебя читают в России!» — «Как это с колоколами, ведь они у вас запрещены», — перебил Толстого Бунин, словно не заметив, «как его любят и читают в России». Конечно, знал он, что и это, равно как и «колокола», — «ложь во благо». Не знали и не читали тогда у нас Бунина!.. Он почти не издавался. Лишь отдельные читатели с еще «дореволюционным стажем» разыскивали его, дореволюционные же, издания по букинистическим лавкам… Как видим, в том разговоре не было даже должной искренности. Тем более, значит, не было ни материальных, ни моральных гарантий к возвращению на родину. Может, она, неискренность, — пусть и как «ложь во благо» — и побудила Бунина написать потом об этой встрече с такой едкостью и сарказмом… Не такой должна была быть встреча, не таким должен был быть разговор о возвращении Бунина на родину! Но ведь и Толстой тут, к сожалению, мог лишь то, что мог, во многом тоже действовал на свой страх и риск, не имея на приглашение ни высшего разрешения, ни высших полномочий… Лишь спустя почти пять лет Толстой обратился к Сталину с письмом — которое тщательно готовил, писал и переписывал, — в котором Толстой спрашивает: «Мог бы я ответить Бунину… подав ему надежду на то, что возможно его возвращение на родину?»
Но надежда подана не была — вплоть до 1946 года…
Бунин о встрече с Симоновым не писал, ограничиваясь упоминаниями. А ведь о встрече с Толстым в 1936 году в Париже, о разговоре по поводу возвращения на родину, Бунин в 1949 году, через четыре года после смерти Толстого, написал ярко, горд своей «неподатливостью», с сарказмом о самом Толстом, о его взятой на себя миссии. Не прощал Бунин самому Толстому его возвращение из эмиграции на родину в начале двадцатых, не мог, вероятно, простить ему «умение устраиваться», о чем пишет, как будто со слов Толстого в эмиграции («Продал за восемнадцать тысяч франков свое несуществующее в России имение»), затем как будто с его же слов о жизни на Родине («Как я, например, живу?.. У меня целое поместье в Царском Селе, у меня три автомобиля… У меня такой набор драгоценных английских трубок, каких у самого английского короля нету»… Я поспешил переменить разговор»).
А ведь о встрече с Толстым в 1936 году в Париже, о разговоре по поводу возвращения на родину, Бунин в 1949 году, через четыре года после смерти Толстого, написал ярко, горд своей «неподатливостью», с сарказмом о самом Толстом, о его взятой на себя миссии. Не прощал Бунин самому Толстому его возвращение из эмиграции на родину в начале двадцатых, не мог, вероятно, простить ему «умение устраиваться», о чем пишет, как будто со слов Толстого в эмиграции («Продал за восемнадцать тысяч франков свое несуществующее в России имение»), затем как будто с его же слов о жизни на Родине («Как я, например, живу?.. У меня целое поместье в Царском Селе, у меня три автомобиля… У меня такой набор драгоценных английских трубок, каких у самого английского короля нету»… Я поспешил переменить разговор»).
Что здесь правда, что шутки и импровизации с обеих сторон? Но ясно, все это в Толстом Бунин помнил, не любил до такой степени, что потом, придя в восторг от «Петра Первого», не только не забыл и об этом упомянуть, но поставил в «первых строках» открытки: «Алеша! Хоть ты и… но ты талантливый писатель. Продолжай в том же духе».
Продолжай в том же духе».
И ничего по существу — ни доброго, ни худого — о встрече с Симоновым! Понятно, если писать о ней, уже к концу жизни (Бунину было 76 лет) в написанном должен был сказаться итог всей жизни, оценка ее, горькое раздумье над нею, итог мучительного отношения к Родине, которую писатель утратил по собственной воле, которая прощала ему его обиды, приступила к изданию его произведений, ждала его самого. Здесь надо было сказать — самому и без оговорок, — была ли его эмиграция ошибкой; или это был поступок, за который испытывал гордость; или, наконец, все отнести на счет Судьбы Поэта…
Бунин предпочел молчание. Хочется думать, что в этом — трудном — молчании Бунина проявилось его своеобычное великодушие к простившей его Родине, сказалась вся тревожная совесть писателя, в свою очередь, было явлено великодушие, на которое только и был способен человек такой тяжелой судьбы, художник — поэт — такого редкостного душевного склада. Затем: «Наши дни не нами сочтены…»
Вот почему спустя десятилетия трудно согласиться с приведенными выше симоновскими строками. Каждое слово в момент написания, видно, искреннее, хорошо обдуманное автором, по следам досадной его неудачи в попытке вернуть Бунина Родине, ныне требует уточнений. Это важно, повторяем, речь идет о весьма авторитетной и слишком частотной цитате!.. Не субъективизм здесь симоновский, увы, сам дух времени…
Каждое слово в момент написания, видно, искреннее, хорошо обдуманное автором, по следам досадной его неудачи в попытке вернуть Бунина Родине, ныне требует уточнений. Это важно, повторяем, речь идет о весьма авторитетной и слишком частотной цитате!.. Не субъективизм здесь симоновский, увы, сам дух времени…
Например, слова о том, что Бунин до конца остался «не принявшим никаких перемен, совершенных Октябрьской революцией». Но мог ли принять на веру с чужих слов какие-либо «перемены» такой впечатлительный художник, как Бунин, в памяти которого еще живы были другие «перемены» в связи со стихийными моментами революции и гражданской войны, художник, для которого, может, в высшей степени, в силу его высшего субъективизма, может, как ни для кого другого, присуще было: «лучше раз увидеть, чем сто раз услышать»! Каждый раз упускалось главное — уникальная личность, резко субъективная индивидуальность художника, даже не художника вообще, а художника Бунина, каким мы его знаем, чувствуем, любим — как человека добрейшего нрава и труднейшего характера… Е. Пешкова писала о своей парижской встрече с Буниным в 1935 году. Она долго и подробно рассказывала писателю о новой России, он много задавал вопросов и жадно слушал. И что же? «Казалось, он верит и не верит тому, что я говорила». А ведь Е. П. Пешкова была женой Горького, собеседницу Бунин знал хорошо еще «по той России», задолго до революции и эмиграции…
Пешкова писала о своей парижской встрече с Буниным в 1935 году. Она долго и подробно рассказывала писателю о новой России, он много задавал вопросов и жадно слушал. И что же? «Казалось, он верит и не верит тому, что я говорила». А ведь Е. П. Пешкова была женой Горького, собеседницу Бунин знал хорошо еще «по той России», задолго до революции и эмиграции…
Бунину, может, не рассказывать нужно было, а показать новую Родину, оставив его одного, без назойливых гидов, восторженных инструкторов и рьяных уполномоченных, одного с его — бунинской — наблюдательностью. Ведь саму нашу победу над фашизмом, которую писатель смог увидеть, в какой-то степени непосредственно почувствовать, даже живя во Франции, — а не по газетам и рассказам, Бунин не только безоговорочно «принял», он всегда говорил об этом с чувством гордости за Родину, ее народ, его армию!
И все же самое досадное, самое, как нам представляется, далекое от истины слово в адрес великого художника — симоновское «антидемократичный», пусть и отнесенное к «человеку Бунину», к его «повадкам», а не к художественной основе писателя, пусть и представшее «в ощущении». Во всем концепция «барьеров», «различий» — не единства…
Во всем концепция «барьеров», «различий» — не единства…
Вспомним, что еще в начале века, уже при первом знакомстве, Горького в Бунине удивляло, коробило его частое упоминание своего дворянского происхождения. Вспомним, что когда-то и Пушкин любил подчеркивать древность своего дворянского рода! Еще и ныне иные литературоведы легко в этом укоряют Пушкина, затрудняясь увидеть в этом простой факт самоутверждения и даже — самозащиты — поэта. И не это ли больше всего дало повод не кому-нибудь — самому Белинскому — написать о Пушкине (в своей восьмой статье о поэте, в разговоре о «Евгении Онегине») следующее: «Личность поэта… Везде видите в нем человека, душою и телом принадлежащего к основному принципу, составляющему сущность изображаемого им класса; короче, везде видите русского помещика… Он нападает в этом классе на все, что противоречит гуманности; но принцип класса для него вечная истина».
Вряд ли нас ныне удовлетворит это определение. Многое из написанного Пушкиным, известное нам, не было известно критику. Скажем, десятая глава «Онегина», сожжением которой поэт вынужден был снять политическую заостренность романа. И вот гениальный поэт, певец свободы и друг декабристов, противник самодержавия и крепостничества, — будто бы «душою и телом» привержен был к принципу класса помещиков, сам «русский помещик».
Скажем, десятая глава «Онегина», сожжением которой поэт вынужден был снять политическую заостренность романа. И вот гениальный поэт, певец свободы и друг декабристов, противник самодержавия и крепостничества, — будто бы «душою и телом» привержен был к принципу класса помещиков, сам «русский помещик».
Как видим, если бы поэт и его творчество не были бы теми живыми явлениями, которые растут и ширятся в нашем сознании, в самом нашем чувстве — нам бы и Пушкина возможно стало назвать «антидемократическим». И даже при этом сослаться на авторитет Белинского…
Горький не только не упрекнул Бунина в «антидемократичности» в пору первого знакомства и частого упоминания Буниным своего дворянского происхождения — он не упрекнул его в этом и после бегства от революции, и даже после того, как Бунин в эмиграции позволил себе выпады как в адрес новой России, так в адрес самого Горького, бывшего своего друга. Наоборот, Горький умел всегда стать над всем мелким, желчным саркастичного и раздраженного Бунина. Всегда Горький — даже тогда, когда в нашей стране ни одну строчку бунинскую не увидеть было в печати, — призывал писателей и литературную молодежь учиться у Бунина художественному слову, виденью, правде изображения, чувству слова — писательскому мастерству… Жаль, что Симонов в своем отзыве о Бунине как бы забыл о примере Горького в его отношениях к Бунину!.. Что же касается — «антидемократичный» — эпитет кажется заимствованным Симоновым из характеристик двадцатых годов, когда каждое, не столь талантливо злое, сколько авторитетно злое слово Бунина в адрес своей утерянной Родины тут же становилось фактом больше политической, чем литературной специфики, и, как сочтено было, парировалось лишь политической публицистикой. Между тем даже «Окаянные дни» уже своей нехудожественностью куда сильнее могли быть парированы литературно-художественной критикой, творческим, писательским словом, чем запальчивыми подчас отзывами, полными политической терминологии!.. Но случилось так, что «Окаянные дни» были столь же далеки от художественной литературы, сколько сам художник был далек от политика… Все сместилось, и факты, и их оценка: поэт невольно становился «политиком», литераторы, которые считались таковыми лишь потому, что ухватились за азы политграмоты, кинулись «судить» поэта.
Всегда Горький — даже тогда, когда в нашей стране ни одну строчку бунинскую не увидеть было в печати, — призывал писателей и литературную молодежь учиться у Бунина художественному слову, виденью, правде изображения, чувству слова — писательскому мастерству… Жаль, что Симонов в своем отзыве о Бунине как бы забыл о примере Горького в его отношениях к Бунину!.. Что же касается — «антидемократичный» — эпитет кажется заимствованным Симоновым из характеристик двадцатых годов, когда каждое, не столь талантливо злое, сколько авторитетно злое слово Бунина в адрес своей утерянной Родины тут же становилось фактом больше политической, чем литературной специфики, и, как сочтено было, парировалось лишь политической публицистикой. Между тем даже «Окаянные дни» уже своей нехудожественностью куда сильнее могли быть парированы литературно-художественной критикой, творческим, писательским словом, чем запальчивыми подчас отзывами, полными политической терминологии!.. Но случилось так, что «Окаянные дни» были столь же далеки от художественной литературы, сколько сам художник был далек от политика… Все сместилось, и факты, и их оценка: поэт невольно становился «политиком», литераторы, которые считались таковыми лишь потому, что ухватились за азы политграмоты, кинулись «судить» поэта. Но время, возвышаясь над запальчивостью момента, обязано все вернуть на свои места, судить о ценностях мудро и объективно. (А, зная это, самые мудрые, и в момент запальчивости, судят все с мерил грядущего!)
Но время, возвышаясь над запальчивостью момента, обязано все вернуть на свои места, судить о ценностях мудро и объективно. (А, зная это, самые мудрые, и в момент запальчивости, судят все с мерил грядущего!)
Вот почему Горький в 1925 году, шесть лет спустя после бунинских «Окаянных дней», в своем отзыве о Бунине не прибегает к политическим оценкам, говорит о своем собрате с горестным сожалением, понимая, что причина бунинской озлобленности — все та же сложная личность художника и человека, их единосущность. Горький писал: «Очень плох Бунин в своих «Окаянных днях». Истерика Леонида никогда не удивляла меня. Леонид был невежествен и слишком напряженно желал, чтобы весь мир, притаив дыхание, слушал только голос Андреева. Бунин — умен по природе, достаточно образован. Видеть его в состоянии столь болезненного бешенства и обидно и противно. И жалко художника. Пропал художник». Пропал ли? Не «максимализм момента» и в Горьком?
Это из горьковских заметок «для себя». И вправду, в «Окаянных днях» — «художник пропал». Но чтоб воскреснуть в новых — художественных — произведениях своих!
И вправду, в «Окаянных днях» — «художник пропал». Но чтоб воскреснуть в новых — художественных — произведениях своих!
Горький — как проницательный врач недуг больного — понимал душевную драму Бунина, не судил его, а жалел. Но насколько были тогда влиятельны скороспелые «политические» оценки художника Бунина со стороны иных наших литераторов (которые не были ни художниками, ни политиками!), можно судить потому, что их не могли не принять в расчет и видные художники Запада, относившиеся сочувственно к родине Октября.
Например, Р. Роллан в письме к Луизе Круппи писал: «Конечно, Бунин отнюдь не наш, он неистово желчно антиреволюционен, антидемократичен, антинароден, почти антигуманен, пессимист до мозга костей. Но какой гениальный художник!» Четырежды повторенное «анти», даже в частном письме, — показательная дань именно «политическому моменту» в отношении тогда к Бунину, автору «Окаянных дней». Роллан ли не знал, что такие четыре «анти» не просто несовместимы, они исключают гениального художника; но сильна, знать, «традиция момента». И все же, несмотря ни на что, Роллан поддержал кандидатуру Бунина на соискание Нобелевской премии!..
И все же, несмотря ни на что, Роллан поддержал кандидатуру Бунина на соискание Нобелевской премии!..
У Роллана — «отнюдь не наш» — не отчуждающий жест политико-корпоративного высокомерия. Скорей, это вздох по поводу того, что вот, мол, «какой гениальный художник!» — а, увы, не с нами, не с социалистическим движением Европы (как писатель Роллан тогда принимал в нем активное участие), как еще недавно был не с социалистической революцией на Родине. Роллан имеет в виду лишь художника, только им, по сути, и был Бунин, — ведь последовательно и законченно он нигде не выступал против социалистического мировоззрения! Социализм — именно как учение и мировоззрение — Бунин не знал, не интересовался им. Мир творчества, его художественно-эстетические интересы, казалось, уже не оставляли места для социальных, тем более политических, интересов. Хотя, конечно, именно художественное чутье поэзии подчас первое разгадывает эти интересы, подсказывает, а то и катализует борьбу за них. Точка пересечения или совпадение пути — все от личности поэта…
В словах Роллана, в его четырех «анти» — печальное сознание, что Бунин иной тип художника, лишенный, увы, чувства историзма в конкретном передовом движении времени и масс, в борьбе, что в высшей степени (хотя и в разной степени и опять же в связи с личностью художника) присуще было Горькому и Роллану. Четыре «анти» шло не из чувства писателя, а из сознания борца за социальный прогресс. Четыре «анти» Роллана, вообще столь несвойственные в речи о поэте (ведь и вправду, говорил тут Роллан не о реакционере вроде Жоржа Клемансо или Джорджа Керзона!), даже замененные на менее активные «не», остались бы достаточно резки. Но, знать, так свежо было на памяти каждое слово неполитического поэта, из личной раздраженности, которое тут же становилось словом политики против родины социализма…
Четыре «анти» шло не из чувства писателя, а из сознания борца за социальный прогресс. Четыре «анти» Роллана, вообще столь несвойственные в речи о поэте (ведь и вправду, говорил тут Роллан не о реакционере вроде Жоржа Клемансо или Джорджа Керзона!), даже замененные на менее активные «не», остались бы достаточно резки. Но, знать, так свежо было на памяти каждое слово неполитического поэта, из личной раздраженности, которое тут же становилось словом политики против родины социализма…
Между тем Бунин никогда не питал симпатий к любым проявлениям эксплуатации, он всегда любил простых людей, был среди них как свой среди своих. Достаточно одного примера: известную песню «Я простая девка на баштане», проникнутую духом демократизма, любовью к простым людям труда, пела вся Россия между двумя ее первыми революциями! Применительно к отдельному человеку — Бунин был «глубоким и последовательным» демократом! Между тем народ и революция в Бунине не принимались органичной цельностью. Здесь и впрямь можно было при желании усмотреть «антидемократизм». В этом было одно из противоречий особой, знать, «чувственной диалектики» поэта Бунина…
В этом было одно из противоречий особой, знать, «чувственной диалектики» поэта Бунина…
Знал ли Симонов письмо это Роллана, знал ли из письма эти четыре «анти», сказанных о Бунине?.. Думается, что знал. Симонов был писателем с повышенным чувством ответственности, всегда изучал «тему», «материал», «документы» — все обстоятельства, которые становились его писательским словом. Здесь же и миссия, и слово о ней были весьма ответственны. «Из записок о И. А. Бунине» помечены 1961—1973 годами. Писатель, стало быть, возвращался к ним, что-то менял в них — и все же «формула» симоновская о Бунине осталась, и, видно, без саморедакций… Свет на ней скорей политический, чем художнический…
Пришвин когда-то заметил, что произведениям писателей в несовременной теме подчас присуща «тайная современность языка». Нечто похожее произошло и здесь. В этой «тайной современности» много временного терминологического, из рабочего момента и попыток к человеческим связям, которые, возможно, так и не осуществят их, тем более не останутся в вечных, живых недрах языка…
О «политической характеристике» Бунина, жившего во французской эмиграции, Симонов не мог не справиться у Роллана, вернее, у умершего к тому времени великого французского писателя, великого друга нашей страны и лично Горького.
Почему-то кажется нам — слово «антидемократичный» так запоздало и так неуместно перекочевало в симоновскую характеристику Бунина именно из тех, давно забытых читателем отзывов и жупелов двадцатых годов.
Из известной анкеты Н. Седовой, где ряд советских писателей высказывали свое безоговорочное восхищение творчеством Бунина, приведем лишь одно, именно — писателя Е. Дороша: «Бунин — писатель с редким, я бы сказал, чувственным восприятием России… Он, по-моему, очень сердечен, всем существом своим чувствует человека».
Сердечность писателя отмечают и мемуаристы, и все близко знавшие его. Достаточно вспомнить, скольким нуждающимся, литераторам и нелитераторам, помог Бунин материально после получения Нобелевской премии! Из сердечности художника вряд ли может вырасти «антидемократичность»… И наоборот, сколько бы иной, бия себя кулаком в грудь, ни назывался «демократом», он им никогда не станет, будучи лишенным сердечности! Стоит вспомнить и то, как легко и непосредственно Бунин всегда сходился с людьми именно демократических слоев России, с крестьянами и ремесленниками, мещанами и мелким чиновным людом, странниками и богомольцами, вспомнить тот жгучий интерес к их жизни, вплоть до мелочей быта, речи, повадок, что и питало жизненность его произведений, чтоб понять всю неуместность укора в антидемократичности, в прочих «анти»…
«Талант талантом, а все-таки «всякая сосна своему бору шумит».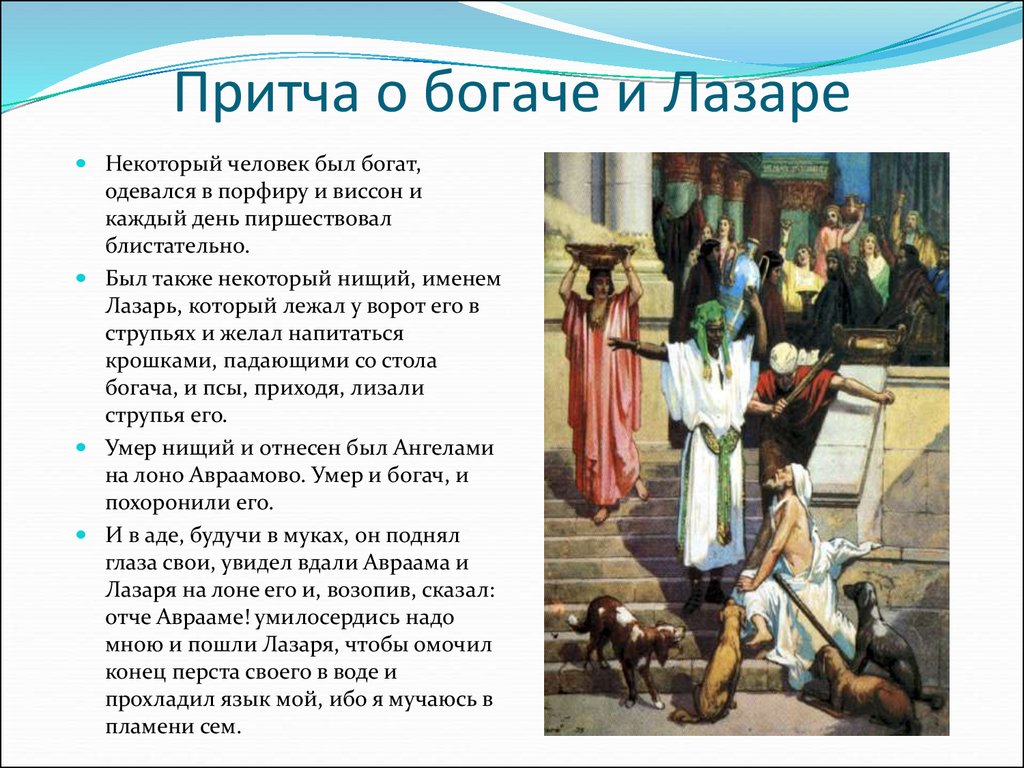 А где мой бор? С кем и кому мне шуметь?» — писал в 1925 году Бунин. Это была все та же тоска о Родине, о ее читателе, о своем народе…
А где мой бор? С кем и кому мне шуметь?» — писал в 1925 году Бунин. Это была все та же тоска о Родине, о ее читателе, о своем народе…
Ныне Бунин возвращен Родине и ее читателю. «Звездные часы человечества», как сказал Цвейг, знают сдвиги во времени, художник, сам или обстоятельствами, отдаляется от читателя на некоторое время, чтоб потом быть близким читателю во все времена, во все века в грядущем.
Два художника слова, два поэта — очень разных, но оба искренних — сидели, смотрели друг на друга, молчали. Много было сказано, еще большее не сказалось. И драматичность времени, символ ее — в этой недомолвленности молчания. Прообраз того рокового барьера, который разобщает даже художников слова, лишает их единого взгляда на свою субстанцию. Время успело смутить непосредственность — сердечную истину — в слове. И подорвать доверие к нему. И сердце молчит, и слово молчит, когда нет единого чувства на дух жизни. Лишь оно — а не интеллект и его изыски сами по себе — делает мир понятней и соединяет людей. И в том молчании была некая экстрема, предчувствие и вещее озарение: необходимо заново осмыслить современный мир! И мы рады, что эта истина ныне вызрела, прорвала молчание и зазвучала на всей планете. Мы рады и тому, что первой она прозвучала на русском языке!
И в том молчании была некая экстрема, предчувствие и вещее озарение: необходимо заново осмыслить современный мир! И мы рады, что эта истина ныне вызрела, прорвала молчание и зазвучала на всей планете. Мы рады и тому, что первой она прозвучала на русском языке!
Из всех тем и жанров изобразительного искусства, которые были затронуты Винсентом, наибольшее внимание от него досталось именно пейзажу. Ван Гог любил природу живой, горячей, страстной, прямо таки внеземной любовью, бесконечно далекой от холодного и утилитарного отношения его современников. Только Ван Гог, сильный как ураган, и наивный, как дитя, мог написать такие поля, такие звезды, такое небо и такие деревья. Творчество двух последних лет жизни художника отмечено экстатической одержимостью, предельно обостренной экспрессией цветовых сочетаний, резкими сменами настроения – от исступленного отчаяния и мрачного визионерства до трепетного чувства просветления и умиротворения. Ван Гог прожил всего 37 лет, из которых лишь последние семь с небольшим были посвящены живописи. Однако его творческое наследие поразительно. Это около тысячи рисунков и почти столько же картин, созданных в результате вулканических творческих извержений, когда в течение долгих недель Ван Гог писал по одной-две картины ежедневно. Напряженная работа и разгульный образ жизни Ван Гога (злоупотреблял абсентом) в последние годы привели к появлению приступов психической болезни. Его здоровье ухудшалось, и в итоге он оказался в клинике для душевнобольных в Арле. Выйдя на прогулку с материалами для рисования, выстрелил в себя из пистолета в область сердца. Пистолет он купил для отпугивания птичьих стай во время работы на пленэре. Затем раненый самостоятельно добрался до лечебницы, где, спустя 29 часов после ранения, скончался от потери крови. Это было 29 июля 1890 года. Сразу же после смерти имя Ван Гога стало упоминаться все чаще как имя одного из самых значительных художников XIX века. Картина «Красные виноградники в Арле» написана в 1888 году Картина написана во время пребывания Ван Гога в городке Арль на юге Франции. Небольшой период жизни там (с февраля 1888 года по май 1889 года) считается самым продуктивным в жизни художника. К нему приехал Гоген, и Винсент мечтал о создании поселения художников, возглавить которое должен был его друг. Ван Гог вдохновлялся окружающими пейзажами, видами городской и сельской местности. В ноябре 1888 года он писал своему брату Тео: «Ах, почему тебя не было с нами в воскресенье! Мы видели совершенно красный виноградник – красный, как красное вино. Издали он казался желтым, над ним – зеленое небо, вокруг – фиолетовая после дождя земля, кое-где на ней – желтые отблески заката». В этом же месяце были написаны «Красные виноградники в Арле», изображающие сбор винограда в окрестностях аббатства Монмажур. Долгое время необоснованно считалась единственной проданной при жизни художника его живописной работой. Картина «Ночное кафе» написана в 1888 году На картине изображено привокзальное кафе города Арля, хорошо знакомое художнику. Хозяева кафе, Жозеф-Мишель и его жена Мари Жино часто позировали Ван Гогу. Ван Гог хорошо знал «ночную жизнь» и подобные заведения. В своем письме к брату Тео он писал об идее этой картины: «В «Ночном кафе» я попытался изобразить место, где человек губит самого себя, сходит с ума или становится преступником. Я хотел выразить пагубную страсть, движущую людьми, с помощью красного и зеленого цвета». Картина была названа одним из шедевров Ван Гога и получила высокую оценку критиков. В отличие от импрессионизма, в этой картине художник не восхищается красотой природы или состояния, Ван Гог передает свои эмоции и чувства, в том числе и с помощью цветового решения. В сентябре 1888 года Ван Гог три ночи подряд работал над картиной, а спал при этом днем. Позже он повторил работу в акварели, работа в настоящее время находится в частной коллекции. Анри де Тулуз-Лотрек 1864 – 1901 Французский художник-постимпрессионист, мастер графики и рекламного плаката. Анри де Тулуз-Лотрек (граф Анри Мари Раймон де Тулуз-Лотрек-Монфа) родился 24 ноября 1864 года в аристократической семье. В детстве, дважды упав с лошади, сломал обе ноги и на всю жизнь остался калекой. Ноги прекратили расти и оставались длиной 70 сантиметров на протяжении всей жизни художника. Скорее всего, кости медленно срастались и рост конечностей остановился по причине наследственного заболевания – бабушки Анри приходились друг другу сестрами. После развода родителей в 1868 году Анри жил в имении Шато-дю-Боск и в поместье Селейранов недалеко от Нарбонна. Анри де Тулуз-Лотрек на протяжении всей жизни был близок с матерью, которая стала главным человеком в его жизни, особенно после трагичных случаев, подорвавших здоровье художника. Отец в обществе был известен как эксцентричная личность, часто менял место жительства, отчего пострадало образование Анри. Однако именно благодаря отцу, который любил развлечения, Анри с ранних лет познакомился с ежегодной ярмаркой и цирком. Впоследствии тема цирка и развлекательных, увеселительных заведений стала основной в творчестве художника. На ранних работах художника изображены в основном его близкие друзья и родственники. Картины написаны с использованием импрессионистической техники, но стремление мастера максимально правдиво, иногда даже беспощадно, передать индивидуальную характеристику каждой своей модели говорит о принципиально новом понимании им образа человека. Лотрек вдохновлялся искусством импрессионистов, в особенности творчеством Поля Сезанна, Эдгара Дега, и японскими гравюрами. В 1882 году приехал в Париж, а в 1884 году обосновался на Монмартре, где прожил до конца своих дней. В 1882 году Лотрек учился у Леона Бонка и Фернана Кормона, но оба учителя были привержены академизму и не оказали большого влияния на его творчество. Художник создал собственный оригинальный стиль. Лишенный нормальной, традиционной жизни, Тулуз-Лотрек жил полностью своим искусством. Монмартр – центр развлечений, кабаре и богемной жизни, которую художник полюбил рисовать. Цирки, кабаре и танцевальные клубы, бордели – вся ночная жизнь Парижа того времени нашла яркое отражение на холстах и литографиях. Сам Тулуз-Лотрек также был частью парижского полусвета. Он сидел в переполненном ночном клубе или ресторане, наблюдал, делал зарисовки. С 1889 по 1897 год Лотрек ежегодно выставлялся в «Салоне независимых» (за исключением 1896 года). На первой выставке картины «Мулен де ла Галетт», «Портрет Фуркада» и «Женский портрет» были отмечены критикой. Самой яркой темой творчества Тулуз-Лотрека стало кабаре Мулен-Руж в 1890-е годы. На его картинах и афишах можно увидеть популярных артистов того времени – Жанну Авриль, Ла Гулю, Валентина Бескостного. Сатирический взгляд художника на мир театра, ночных кафе, артистической богемы Парижа и опустившихся завсегдатаев притонов находит свое выражение в гротесковом преувеличении, которым он пользуется при написании таких картин, как «Танец в Мулен-Руж». |
Памятник Трансформация 2 | Скульптура Ивана Коржева
У абстракции больше всего форм выражения.
Станислав Ежи Лец, польский поэт, философ
Имеют ли мир и вещи конкретную определенную форму или они постоянно видоизменяются? Есть ли «золотой стандарт» у произведений скульпторов, художников, литераторов — идеальная форма, радующая глаз, душу, услаждающая слух? Или каждый Творец волен проводить эксперименты и выносить на общий суд собственное видение мира, воплощенное в произведениях искусства?
Постараемся найти ответ на эти непростые вопросы, а заодно познакомимся с великими экспериментаторами, перевернувшими в свое время всеобщее представление о том, каковы вещи на самом деле и как их можно изобразить.
Устами древних
Для начала обратимся к самым истокам и постараемся понять, существует ли форма вообще.
На этот вопрос буддизм, одна из древнейших мировых философских систем, отвечает довольно категорично: нет. Согласно Учению, всякая материя есть непрерывная перемена, то есть существовать — значит изменяться каждое мгновение. Так о каком же постоянстве формы может идти речь?
Интересно, что в данном вопросе буддисты солидарны с учением их предшественников — индийской философской системой Санкья. Которая также учила: все вечно меняется. Эту связь между двумя системами уже давно признали и обсуждают современные европейские ученые.
Если пойти еще дальше и продолжить тему буддизма, можно узнать, что ничто никуда не рассыпается и не исчезает просто потому, что никаких частиц нет. Последователи Будды убеждены: отдельные элементы ежемгновенно возникают и бесследно исчезают.
Неподготовленному человеку осознать это довольно трудно: даже сам Гаутама открывал эту истину не перед всеми. Ограничимся лишь принятием того, что форма, которой и посвящена эта статья, — понятие условное, и посмотрим, какие любопытные эксперименты с ней проводили разные мастера.
Ограничимся лишь принятием того, что форма, которой и посвящена эта статья, — понятие условное, и посмотрим, какие любопытные эксперименты с ней проводили разные мастера.
«Таможенник» Анри Руссо
Начнем с живописи и обратимся к одному из самых обаятельных французских мастеров Анри Руссо — человеку, чье творчество изначально вызывало недоумение и гомерический хохот толпы, а теперь признано во всем мире.
Художник-самоучка родом из небольшого городка Лаваля, он начал писать уже в зрелом возрасте. Его карьера началась в Париже в 1886 году, когда он представил свои наивные полотна на выставке импрессионистов.
Руссо искренне мечтал стать художником-академистом, копировал работы великих мастеров, целыми днями пропадая в музеях, но именно недостаток образования подарил Анри его героев — нескладных, непропорциональных (и это несмотря на то, что он измерял своих моделей складным метром!), с весьма приблизительным портретным сходством, а потому столь очаровательных, немного неземных, как бы слегка парящих над землей.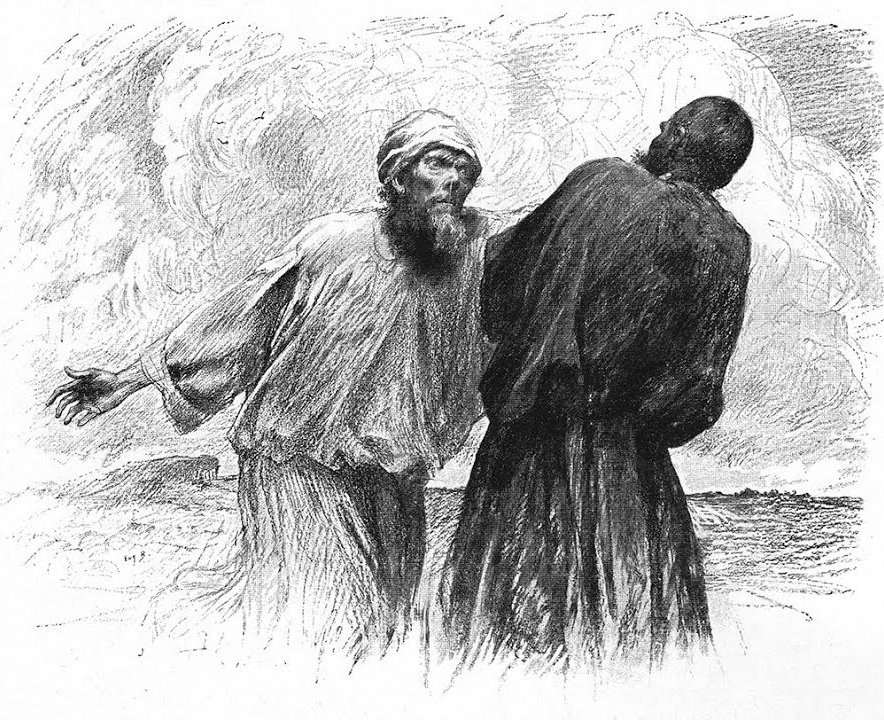
Руссо писал искренне, и именно это подкупает в созданных им образах. А еще в душе живописца жил невероятно красочный мир никогда не виданных им джунглей. Целая серия полотен посвящена далеким тропикам. И снова мы видим животных странных форм, странных до такой степени, что некоторых из них трудно узнать. А собака на полотне «Свадьба» и вовсе кажется написанной ребенком.
Однако все это — мир Руссо, мир созданных им форм, признанный великими мастерами: им восхищался Пабло Пикассо. Анри Руссо подтолкнул мир к признанию эстетической ценности примитивизма, и многие профессиональные художники ХХ века переняли его приемы. Однако он был первым и останется таковым навсегда.
«Мобили» Колдера
А оригиналу Александру Колдеру, американскому скульптору, удалось соединить нестандартные формы с движением, то есть буквально оживить свои странные и притягательные работы.
Было это так. В 20-е годы ХХ века он перебрался во французскую столицу. Чтобы хоть как-то заработать, Колдер принялся мастерить небольшие фигурки из проволоки и в результате создал свой собственный миниатюрный цирк. Эти работы сложились в серию под названием «Цирк Колдера». Интерес заключался в том, что каждый элемент композиции легко менял свою конфигурацию и местонахождение.
Эти работы сложились в серию под названием «Цирк Колдера». Интерес заключался в том, что каждый элемент композиции легко менял свою конфигурацию и местонахождение.
Друг скульптора Марсель Дюшан, художник-дадаист, предложил Александру термин «мобиль» как противопоставление «стабилям» — статичным объектам. Название отлично прижилось — Дюшан попал прямо в яблочко.
В 30-е годы Колдера увлекли абстрактные формы. Его произведения превратились в сквозные структуры, преимущественно из металла, приводившиеся в движение естественными потоками воздуха либо электрическими двигателями. Мобили Колдера крепились на стену, потолок или на стенд. Свет использовался для более выраженной иллюзии движения.
Сам Александр не всегда применял наименование «мобиль». Его абстрактные формы, считал он, были «картинами в четырех измерениях». Они-то и принесли мировую славу человеку, сумевшему объединить форму, свет и обнажить суть движения времени.
Лирик Соколов и ироничный Фрай
Обратимся к иным видам искусства и рассмотрим словоформы. В качестве примера возьмем произведение одного из самых выразительных прозаиков ХХ века Сашу Соколова и его эпохальную «Школу для дураков».
В качестве примера возьмем произведение одного из самых выразительных прозаиков ХХ века Сашу Соколова и его эпохальную «Школу для дураков».
Что это за книга? Лирический экскурс в детство? Таинственная летопись, переполненная шифрами и аллюзиями? Предоставим каждому читателю ответить на этот вопрос по-своему, очевидно одно: великому мистификатору, «проэту» (то есть прозаику и поэту) Соколову удалось создать многоуровневое гениальное произведение и найти собственную неповторимую форму.
«…и я докажу всем на свете, что во времени ничто находится в прошлом и будущем и ничего не имеет от настоящего, и в природе сближает с невозможным, отчего, по сказанному, не имеет существования…»
Чувствуете ли в тексте буддийские мотивы?..
И тут вступает в разговор Макс Фрай (таков литературный псевдоним писателей Игоря Степина и Светланы Мартынчик), который не создает сложный для понимания разноплановый текст, а в произведении «Идеальный роман» попросту объединяет все существующие жанры.
Эта своеобразная насмешка над читателями, которым вечно не терпится, как указывается Фраем, заглянуть в конец только что начатой книги и узнать финал, не воспринимается в штыки — и книга читается с легкой улыбкой.
Автор попросту приводит в пример литературные жанры — авантюрный роман, анекдот, мистика, литературная биография — и сопровождает их краткими текстовыми выдержками в лучших традициях вышеуказанного жанра. В итоге получился роман, каждая глава которого — это определенный жанр, название вымышленного произведения и одна-две строчки текста. Например, в главе «Детская литература» есть «произведение» «Лето в деревне». И звучит оно так:
«Максимка свистнул Барбоске, и они побежали домой, где уже ждала их бабушка».
Гениальная находка и гениальный роман, книга в книге, ярчайший пример игры с формой.
Чиновник-новатор Уитмен
О новаторах-поэтах, любителях заигрывать с формой, можно говорить бесконечно. Конечно же, первыми приходят на ум футуристы с их заумью, но здесь бы хотелось остановиться на американском поэте XIX столетия Уолте Уитмене, опередившем время.
Этого поэта-самоучку из Нью-Йорка называли новатором свободного стиха. Его переводили Бальмонт, Чуковский, а к концу жизни признали первым общенациональным поэтом США.
Трудно представить, чтобы в позапрошлом столетии кто-то, тем более — государственный служащий! — отважился создать целую серию стихотворений без какой-либо рифмы, размера и даже длины строки. Его произведения из сборника «Листья травы» — это ода природе, очищающей человека, восхваление всемирного братства людей, любви, дружбы, выраженные в форме верлибра, абсолютно непривычной для чинных поклонников поэзии XIX века.
Вы только прислушайтесь:
«Я умираю вместе с умирающими и рождаюсь вместе с только что обмытым младенцем».
Или:
«…Я весь не вмещаюсь между башмаками и шляпой…»
Так в позапрошлом веке не писал никто.
Символические притчи Феллини
Новые формы в кино нашел темпераментный итальянец Федерико Феллини. Болезненный ребенок, он много времени проводил дома, играл с куклами, сам шил для них костюмы, был очарован цирком. А потом, став постарше и окрепнув, начал снимать гениальное кино — кино, не имевшее ничего общего с тем, что зрители видели раньше.
Болезненный ребенок, он много времени проводил дома, играл с куклами, сам шил для них костюмы, был очарован цирком. А потом, став постарше и окрепнув, начал снимать гениальное кино — кино, не имевшее ничего общего с тем, что зрители видели раньше.
Кинопроизведения «Дорога», «Ночи Кабирии» ознаменовали переход Мастера от реализма к символической притче. Феллини удалось найти абсолютно новые формы подачи киноматериала, можно сказать, изобрести новый язык.
И он был понят современниками. «Дорога» получила «Оскара» 1957 года как лучший итальянский фильм, а «Ночи Кабирии» были всенародно признаны шедевром.
Лента «Сладкая жизнь» — вершина творчества режиссера, глубокая философская притча о современном ему обществе, переживающим кризис, в котором люди разобщены и ведут пустую жизнь, лишенную смысла. Правда, сам мастер говорил, что он показал в своей картине совсем иное — жизнь, состоящую из волшебных мгновений, которые хочется потягивать, как сладкое вино.
Так в чем именно заключается новаторство Феллини? Дело не только в том, что он впервые вывел на экран в качестве главного героя «маленького человека». Мастер соединил воедино реальность и вымысел и отказался от традиционной сюжетной линии. В этом и заключается особенность формы, найденной великим итальянцем.
Мастер соединил воедино реальность и вымысел и отказался от традиционной сюжетной линии. В этом и заключается особенность формы, найденной великим итальянцем.
Из госпела — в рок-н-ролл
Закончить хочется небольшим рассказом о революции, которую произвели в музыке не один, а сразу несколько человек, о величайшей в мире трансформации формы — переходе госпела, то есть церковных песнопений в церквях темнокожих, к рок-н-роллу.
Это случилось в южных американских штатах, где действовало много евангельских и протестантских церквей. В них исполнялись душещипательные вокальные хоровые произведения, представлявшие собой редкую смесь африканских ритмов, английских церковных гимнов и даже народной музыки кельтов. Это и был госпел середины 50-х.
А отцы рок-н-ролла — Элвис Пресли, Джерри ли Льюис, Чак Берри, Бадди Холли, Литтл Ричард — частенько наведывались в церкви. Надо полагать, не только с целью воздать хвалу Господу. Они скорее слушали и наблюдали за происходящим, перенимая у церковных исполнителей ритмы, телодвижения, мимику.
А затем было достаточно просто взять в руки гитару и слегка переделать текст, заменив слово «Jesus» («Иисус») на нечто более романтичное — так, чтобы понравилось подросткам. Так и произошло Великое рождение рок-н-ролла, трансформация одной музыкальной формы в другую, так началась новая Эра, которая, по сути, продолжается по сей день. Правда, это уже совсем другая история…
Список литературы:
- Буддизм. Иллюстрированная энциклопедия. Эксмо, Москва, 2012.
- Искусство XIX-XX вв. Стили и течения. Bestiary, 2013.
- Саша Соколов. Школа для дураков. Симпозиум, Санкт-Петербург, 2001.
- Макс Фрай. Идеальный роман. Азбука, Санкт-Петербург, 1999.
- Уолт Уитмен. Листья травы. Азбука, 2019.
Смысл притчи о талантах
Опубликовано 12 октября 2020 г.
Во время своего служения Иисус использовал притчи, чтобы преподать людям урок или познакомить их с Царством Божьим. В основном это истории о сценариях из реальной жизни, которые содержат скрытое сообщение. Одной из таких историй является притча о талантах.
Одной из таких историй является притча о талантах.
В Библии притча появляется дважды: в Луки 19:11-27 и в Матфея 25:14-30. Хотя детали различаются, обе версии рассказывают одну и ту же историю:
Мастер отправился в дальние страны. Но перед поездкой он призвал троих своих слуг и каждому дал по таланту по способностям. Первому слуге он дал пять талантов; ко второму, два, и только один для последнего слуги. Затем он отправился в свое путешествие.
Первые два слуги пошли и пустили свои деньги в дело. Пока последний выкопал яму в земле и спрятал полученное.
Когда хозяин вернулся, он спросил слуг, что стало с талантами, которые он им дал. Первый с гордостью ответил, что на то, что дал ему мастер, он получил еще 5 талантов. Второй слуга также заработал на два таланта больше, чем первые два, которые он получил. Когда третий слуга вышел вперед, он рассказал своему господину, что он сделал, утверждая, что он сделал это из страха.
Очевидно, хозяин был очень доволен первыми двумя слугами. В награду за то, что они сделали, он поручил им больше дел и пригласил их разделить его счастье. Что же касается третьего слуги, то он взял у него талант и изгнал из своего дома.
В награду за то, что они сделали, он поручил им больше дел и пригласил их разделить его счастье. Что же касается третьего слуги, то он взял у него талант и изгнал из своего дома.
В конце притчи Иисус сказал, что тем, кто имеет, будет дано больше, а у тех, у кого ничего нет, все будет отнято.
Как и любая притча, эта кажется обычной историей о хозяине и его слугах. Но какую весть хочет донести до нас Иисус через эту притчу? Давайте посмотрим на смысл притчи о талантах.
Расшифровка притчи
На протяжении веков притча о талантах интерпретировалась по-разному. В большинстве случаев перспектива меняется в зависимости от того, кто делает интерпретацию. Но чтобы добраться до сути притчи, нам нужно расшифровать ее детали.
Что такое талант?
Во времена Иисуса талант использовался как единица веса, эквивалентная примерно 80 фунтам. Но при использовании в качестве валюты один талант составляет около 6000 динариев — стандартная римская монета, которая является обычной оплатой за дневной труд. Таким образом, в те времена один талант равнялся 16 годам труда. Отсюда понятно, почему хозяин возмутился, когда слуга не воспользовался чем-то, что он, вероятно, может иметь только один раз в жизни.
Таким образом, в те времена один талант равнялся 16 годам труда. Отсюда понятно, почему хозяин возмутился, когда слуга не воспользовался чем-то, что он, вероятно, может иметь только один раз в жизни.
Подробности на заметку
На протяжении всей притчи Иисус дает нам детали, которые дают нам ключ к тому, что Он хочет, чтобы мы вынесли из нее. Вот некоторые толкования некоторых примечательных деталей притчи:
Путешествие Учителя
Если это еще не очевидно, то Учитель представляет Иисуса. Он говорит о том, что отправляется в путешествие, что явно является намеком на его предстоящее возвращение к отцу. Его возвращение, очевидно, относится к Его второму пришествию. Господин, спрашивающий своих слуг о том, что стало с талантами, — это Иисус, говорящий нам, что, когда он придет снова, мы все должны будем дать отчет за то, что мы сделали с тем, что он нам дал.
Отношения между господином и слугой
Во времена Иисуса господа нередко доверяли своим слугам большие суммы денег. Но, как мы узнали, один талант стоит зарплаты за 16 лет. В пересчете на сегодняшние деньги это более миллиона долларов. При этом мы можем видеть, насколько хозяин доверяет своим слугам, чтобы дать им такую огромную сумму.
Но, как мы узнали, один талант стоит зарплаты за 16 лет. В пересчете на сегодняшние деньги это более миллиона долларов. При этом мы можем видеть, насколько хозяин доверяет своим слугам, чтобы дать им такую огромную сумму.
Что касается слуг, то они могли сбежать с деньгами. Или сделайте то, что сделал третий слуга, чтобы избавить их от необходимости вкладывать деньги. Но они этого не сделали. Они оставались верны своему хозяину даже в его отсутствие и хорошо использовали то, что ему давали.
Что мы можем узнать из притчи о талантах
Возможно, эта притча была написана тысячи лет назад, но это не значит, что она больше не актуальна. Да, концепция хозяина и слуги, возможно, устарела, как и большинство деталей в этой истории. Но уроки остаются верными, сколько бы веков ни прошло.
Вот некоторые основные выводы из притчи о талантах:
Успех невозможен без риска
Третий слуга — это простой пример того, что происходит, когда мы слишком боимся рисковать. Да ничего мы не потеряем. Но и мы ничего не выиграем. Короче говоря, мы не можем достичь успеха, не рискуя на этом пути.
Да ничего мы не потеряем. Но и мы ничего не выиграем. Короче говоря, мы не можем достичь успеха, не рискуя на этом пути.
Во всем, что мы делаем, мы должны стремиться прославлять Бога
Верность двух слуг, несмотря на отсутствие их хозяина, является свидетельством их стремления прославлять своего господина. Даже если он физически не присутствует, они использовали его данные таланты, чтобы делать то, что он хотел бы, чтобы они сделали. То же самое касается и нас. Во всем, что мы делаем, мы должны стремиться прославлять Бога. Мы должны использовать то, что Он дал нам, в соответствии с Его целью.
У каждого из нас есть таланты, данные Богом
Точно так же, как каждый слуга получил разное количество талантов, мы тоже наделены разнообразными навыками и способностями. Возможно, вы не прирожденный певец или танцор, но наверняка есть что-то, в чем вы хороши. В конце концов, мы не можем все быть певцами и танцорами. Умение читать эмоции других людей — это талант.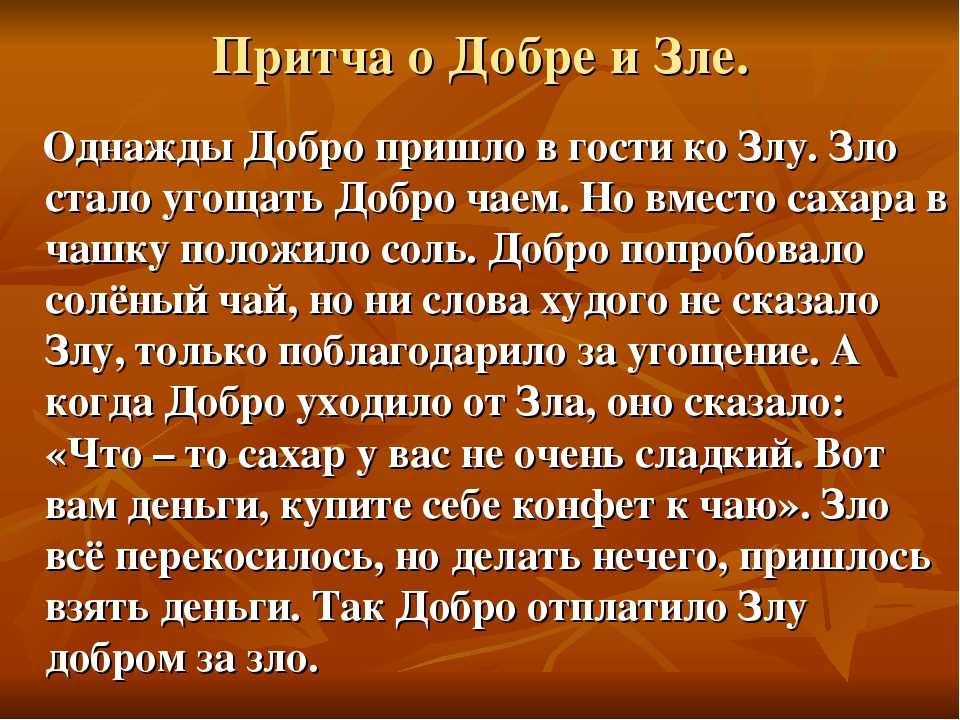 Даже иметь красивый, аккуратный почерк — это талант. От нас зависит, как использовать этот Богом данный талант в соответствии с его целью.
Даже иметь красивый, аккуратный почерк — это талант. От нас зависит, как использовать этот Богом данный талант в соответствии с его целью.
Божья награда зависит от наших усилий
В притче хозяин наградил двух слуг, но наказал последнего. То же самое относится и к нам. Нас вознаграждают за хорошие дела, которые мы делаем, и наказываем за каждый плохой поступок. Вот почему, когда мы делаем добро другим людям и используем данный Богом талант, чтобы сделать жизнь других лучше, мы получаем больше благословений.
Создатель Великой волны Канагавы
Кацусика Хокусай (1760-1849)) был к концу жизни самопровозглашенным «помешавшимся от живописи стариком». За свою жизнь он использовал 30 разных псевдонимов, переезжал 93 раза и создал около 30 000 произведений искусства. Сегодня его помнят как одного из самых выдающихся мастеров укиё-э в Японии и создателя знаменитой «Большой волны у берегов Канагавы» (ок. 1829–1833).
Его биография: Эксцентричность неутомимого художника на протяжении всей жизни
Хокусай родился в 1760 году в Эдо (современный Токио), Япония, и его первоначальное имя было Токитаро. Он начал рисовать, когда ему было пять лет, и работал клерком в книжном магазине. Когда ему было пятнадцать, он пошел в подмастерье, чтобы стать гравером по дереву. Три года спустя он учился у мастера укиё-э Кацукава Сюнсё.
Укиё-э был японским художественным стилем, в котором для печати изображений и текстов использовались ксилографии. Это началось в начале 17 века, когда художники использовали его для воссоздания рисунков на шелке и бумаге. Вскоре укиё-э стало очень популярным средством массового производства. Он также стал символом богатства. Люди могли покупать репродукции с изображением известных личностей, таких как актеры, политические лидеры или памятники природы.
Хокусай пошел по стопам этой модели. Первыми его публикациями были репродукции актеров театров кабуки (где кабуки означает классический танцевально-драматический спектакль). Он продолжал рисовать актеров, женщин, исторических личностей и многое другое в свои 20 лет. Примерно в это же время он также женился на своей первой жене, которая скончалась позже, когда он принял имя Хокусай.
Хокусай продолжал оттачивать свои навыки и начал добиваться большего успеха, когда он вошел в суримоно жанр искусства. Этот стиль был определен печатью для особых случаев, таких как Новый год. Он был нацелен на тех, кто хотел сделать персональные, уникальные пригласительные высокого качества.
Его золотой век действительно начался после этой фазы. В 1793 году его хозяин Шуншо умер, а вскоре после этого скончалась и его жена. Хокусай остался с сыном и двумя дочерьми. Четыре года спустя он женился на своей второй жене и принял имя, под которым мы его знаем сегодня.
Хокусай прославился тем, что устраивал дикие демонстрации искусства на публике. На фестивалях он писал картины площадью 2000 квадратных футов. Трудолюбивый, он просыпался очень рано и продолжал работать до поздней ночи.
В 1828 году умерла вторая жена Хокусая. На этот раз у него была любимая дочь Ои, которая жила с ним и работала рядом с ним в течение многих лет. Хокусаю было 68 лет, он был частично парализован и злился на то, что его сын был правонарушителем. Поэтому он посвятил время обучению искусству Ой. Хотя ее таланты не были так признаны, как таланты ее отца, аниме-фильм «Мисс Хокусай » (2015) отдает дань уважения ей и истории ее отца.
Постоянно меняясь, Хокусай продолжал переезжать каждый раз, когда его студия становилась слишком грязной. Он также часто менял свое имя художника. Хотя это было обычным явлением для японских художников его эпохи, они часто доходили до 30 смен. Некоторые из профессиональных имен Хокусая включают Сюнро, Соури, Како и Тайто.
Некоторые из профессиональных имен Хокусая включают Сюнро, Соури, Како и Тайто.
К концу его жизни псевдоним, украшавший его надгробие, был Гакё Родзин Мандзи. Эта фраза означает «старик, помешанный на рисовании» , что является лишь частью того, за что его с любовью вспоминают сегодня.
Воздействие Хокусая: Большая волна с запада
Вам нравится эта статья?
Подпишитесь на нашу бесплатную еженедельную рассылку новостей Сумасшедший сделал свою самую известную работу, когда ему было за 70. Большая волна Канагавы — это гравюра на дереве, изображающая гору Фудзи, популярный символ души Японии, на вершине гигантской волны. Отпечаток был частью серии под названием 36 видов на гору Фудзи. Коллекция была расширена до 46 отпечатков, поскольку она добилась большого успеха. Хотя оригинальная гравюра изношена, ее материал означает, что в крупных музеях есть несколько ее оттисков. По данным Британского музея, до сих пор существуют сотни оригинальных оттисков.
По данным Британского музея, до сих пор существуют сотни оригинальных оттисков.
Первоначально популярный в Японии, Великая волна считается источником вдохновения движения импрессионистов в Париже. На самом деле, некоторые говорят, что движение никогда бы не возникло, если бы влияние Хокусая не распространилось за границу.
Япония проводила изоляционистскую политику до 1850-х годов, то есть примерно в то время, когда умер Хокусай. При его жизни контакты нации с иностранцами были крайне ограничены. Тем не менее, насыщенный синий цвет The Great Wave на самом деле был сделан из пигмента берлинской лазури. Поскольку он сделал это в 1830 году, остается любопытная история о том, как он получил иностранный оттенок.
Некоторые считают, что европейский пигмент придает искусству новый смысл. Поскольку гора Фудзи олицетворяет душу Японии, некоторые рассматривают эту работу как символ стойкости Японии перед волной грядущих внешних изменений и влияний.
Когда умер Хокусай и Япония открыла свои границы, Великая волна была одной из первых японских работ, попавших в Европу. Там он вдохновил Винсента Ван Гога, Клода Моне, Дега, Анри де Тулуз-Лотрека и многих других.
Дега черпал вдохновение в том, как Хокусай рисовал человеческие формы, а Тулуз-Лотрек отражал его изображения обычной жизни. Вполне возможно, что Клод Моне был вдохновлен цветочными работами Хокусая, чтобы создать свои водяные лилии. По мере того, как Япония перенимала тенденции Запада в попытке модернизироваться, Франция также черпала вдохновение у японских мастеров.
Современный эффект: всемирная слава
Сегодня творчество Хокусая продолжает достигать людей на всех континентах. Даже те, кто не интересуется искусством, часто могут узнать произведения. Хотя «Великая волна » изначально печаталась на таких предметах, как шелк или бумага, теперь ее можно увидеть на различных носителях, таких как носки, чехлы для телефонов, книги и другие носители поп-культуры.
Что менее известно, так это первоначальное влияние и интересная жизнь самого безумца. Вместе они более чем достаточны, чтобы понять, почему Хокусай был таким запоминающимся персонажем.
Противоречивая история знаменитой картины Эндрю Уайета «Мир Кристины»
Картина Эндрю Уайета «Мир Кристины » (1948) — современный шедевр. Или это совсем банально? Спустя почти 70 лет после его создания (и столетие после рождения Уайета в Пенсильвании) критики и зрители остаются в замешательстве, не зная, какое место Уайета среди послевоенного пантеона абстрактных экспрессионистов, поп-артистов и минималистов.
Почему Мир Кристины вызывает такие сильные чувства ностальгии и пренебрежения? Правда, картина несколько китчевая. Это предполагает, что у зрителя есть связь с американской пасторалью — то, что уже закреплено в работах художников Школы реки Гудзон 19-го века и их потомков во втором поколении, люминистах.
Уайет изображает сельскую местность как убежище, аркадию. Зрители могут заметить мельчайшие детали стиля Уайета, то, как он скрупулезно прорисовывает каждую травинку, уделяя особое внимание каждой детали — даже ферме на горизонте. Кристина наклоняется к своему фермерскому дому. Она жаждет снова оказаться дома; она хочет, чтобы мы пошли с ней.
Однако мы не должны игнорировать более навязчивые аспекты живописи Уайета. Поскольку мы не видим лица Кристины, вместо этого мы фокусируемся на деталях ее тела. Мы видим седые пальцы, растрепанные волосы, розовое платье и простые туфли. Вопросы могут преследовать зрителя. Кто такая Кристина? Почему она на земле? Кого или что она ищет вдалеке? Элементы тайны и интриги могут заставить зрителя присмотреться.
К сожалению, более пристальный взгляд на исторический и этический контекст Мир Кристины передает первоначальные прелести картины. Уайет был своеобразным художником, чьи семь десятилетий работы сосредоточены в основном на двух семьях в двух местах: Куэрнеры в Чаддс-Форде, штат Пенсильвания, и Олсоны в Южном Кушинге, штат Мэн. Субъект Мир Кристины — Анна Кристина Олсон. Она была одной из муз художника, появившись в нескольких других работах. Олсон жила на своей семейной ферме в Южном Кушинге, штат Мэн, недалеко от загородного дома Уайета.
Хотя неврологи сначала думали, что у Олсон полиомиелит, теперь они считают, что она страдала болезнью Шарко-Мари-Тута (ШМТ), которая вызывает слабость в ступнях и мышцах голени. ШМТ также затрудняет координацию пальцев, кистей, запястий и языка. В результате Олсон стал инвалидом ниже пояса; она часто передвигалась по своей семейной собственности ползком. И, как гласит легенда, Уайет нашел вдохновение для Мир Кристины Однажды днем он увидел, как Олсон таскает ее тело по полю.
Обосновывая, почему он решил нарисовать Олсон, Уайет однажды заявил, что хотел «отдать должное ее экстраординарному завоеванию жизни, которую большинство людей сочли бы безнадежной. Если мне каким-то образом удалось в красках дать зрителю понять, что ее мир может быть ограничен физически, но ни в коем случае не духовно, то я добился того, что намеревался сделать».
Это замечательная цель, но Уайет так и не достигла ее полностью. Мир Кристины изображает не только Олсона, но и молодую жену художника Бетси. В свои двадцать с небольшим она была моложе Олсона почти на 30 лет, и у Уайета был свободный доступ к его кропотливому моделированию и созданию эскизов. Он использовал свою жену в качестве модели для головы и туловища фигуры.
Подтекст этого переворота зловещий. Заменил ли Уайет части Олсона на Бетси ради красоты? И можем ли мы предположить, что художница никогда не спрашивала у Олсон согласия нарисовать ее инвалидность? Все хорошо?
Сегодня я бы сказал, что Уайет обошёл свою самопровозглашенную цель для Мир Кристины , скомпрометировав поразительный реализм своей картины в пользу более молодой модели. Но в этой истории все не так просто. Сообщается, что Олсону понравилась картина. «Энди поставил меня туда, где, как он знал, я хотела быть», — сказала она. «Теперь, когда я больше не могу быть там, все, что я делаю, это думаю об этой картине, и я там».
Но в этой истории все не так просто. Сообщается, что Олсону понравилась картина. «Энди поставил меня туда, где, как он знал, я хотела быть», — сказала она. «Теперь, когда я больше не могу быть там, все, что я делаю, это думаю об этой картине, и я там».
На самом деле Олсон и Уайет поддерживали очень близкие отношения на протяжении всей своей жизни. За год до своей смерти Уайет сказал L.A. Times , что он хотел, чтобы его похоронили вместе с Олсоном. «Я хочу быть с Кристиной», — сказал он.
Как и в Мир Кристины , сентиментальность Уайета скрывает более тревожную правду. Вскоре после того, как Музей современного искусства купил картину художника, Уайет стал успешным художником. (Не то чтобы критики любили его, они его ненавидели. Они восхищались сюрреалистическими тонами некоторых его ранних работ, но резко осуждали вульгарную ностальгию таких картин, как «Мир Кристины», , который игнорировал основные исторические и эстетические события, такие как Вторая мировая война и абстрактный экспрессионизм соответственно. )
)
Несмотря на это, Уайет стал богатым художником. Хотя он, как сообщается, предлагал семье Олсон подарки, Кристина горячо отказывалась от денег. Таким образом, хотя он косвенно извлекал выгоду из борьбы инвалида, его подопытный никогда не видел ничего из этого богатства. Семья продолжала жить в своем ветхом фермерском доме.
Эти исторические сноски не могут не повлиять на оценку Мир Кристины . Я до сих пор наслаждаюсь формальными качествами картины — ее приглушенной палитрой и шаткой, извилистой перспективой, — но трудно понять художника, чье понимание быстро меняющегося мира было настолько умышленно ограниченным, а этика столь туманной.
Библейские истории, необходимые для истории искусства
Art
Оливия Макьюан
18 декабря 2018 г. 8:46 вечера
Мастер Mocchirolo
распятия , 14 -й век
Pinacoteca di Brera , 14 -й век
Pinacoteca di Brera , 14 -й век
Pinacoteca di Brera , 14 -й век
. 0005
0005
Современному зрителю библейские повествования, которые появляются в западном искусстве от средневековья до современности, могут показаться непроницаемо темными. Вездесущность образов Нового и Ветхого Завета в искусстве проистекает из необходимости визуально иллюстрировать и духовно вдохновлять в основном неграмотную аудиторию эмоциональным, а не интеллектуальным образом.
Существует иерархия этих повествований, которая в первую очередь продиктована физическим пространством, в котором они должны были появиться. Сцены, считавшиеся наиболее важными, занимали видные фокусы церкви или запрестольного образа, а сцены меньшего значения расходились наружу. Возьмем цикл фресок XIV века, первоначально украшавший апсиду молельни Порро в Мокчироло. Сам выбор библейских отрывков и их размещение в часовне указывает на духовные ценности людей, заказавших украшение. Распятие занимает самое большое место на задней стене; над этой сценой, на цилиндрическом потолке, Христос поднимает руку в акте благословения или суда, в то время как повествования о ранней жизни Христа появляются на каждой боковой стене.
Визуальный материал, предлагаемый Библией, огромен, и хотя большая часть истории искусства посвящена христианским темам, этот список предлагает введение в наиболее важные религиозные истории западного искусства. В современную эпоху художники адаптировали эти истории для новых целей, будь то комментарии к текущим событиям или аллегории для своих собственных целей. Таким образом, одни и те же сцены неоднократно появляются — в совершенно разных обличьях — на протяжении всей истории искусства по мере развития тенденций и изменения навыков.
Создание и изгнание из Эдемского сада
Микеланджело Буонартоти
Создание Адама, Сист-Чапел Поток , 1511-1512
Систинская часовня, Ватик
Реклама
В соответствии с Старым Явлением, Божье, создал Божье, создал мировой яичник, создал World
. через семь дней. Однако большая часть христианского искусства сосредоточена на конечном сотворении человека. Одно культовое изображение стало иллюстрацией божественного творения человечества: Микеланджело «Сотворение Адама 9». 0004 (1511–1512 гг.), центральный мотив потолка Сикстинской капеллы. Хотя это стало одним из самых пародируемых мотивов в истории искусства, невероятная необычность фрески проистекает из ее эмоционально заряженного изображения момента, когда Бог, необычно представленный в человеческом обличье, дает жизнь человечеству через протянутые кончики пальцев Адама.
0004 (1511–1512 гг.), центральный мотив потолка Сикстинской капеллы. Хотя это стало одним из самых пародируемых мотивов в истории искусства, невероятная необычность фрески проистекает из ее эмоционально заряженного изображения момента, когда Бог, необычно представленный в человеческом обличье, дает жизнь человечеству через протянутые кончики пальцев Адама.
Чаще художники предпочитают пышные воспоминания об Адаме и Еве в их Эдемском раю, часто в окружении животных. Лукас Кранах Старший сделал несколько версий на эту тему; все наслаждаются блестящей зеленой листвой и цветами, а также социально приемлемой возможностью пообщаться с обнаженной женщиной — с прекрасно прорисованной дикой природой, включая львов, оленей и кабанов. Его Адам и Ева (1526) показывает решающий момент, порождающий первородный грех: Ева протягивает запретный плод растерянному Адаму.
Моисей и десять заповедей
Рембрандт ван Рейн, Моисей, разбивающий скрижали Закона, 1659. Предоставлено Викискладом.
Предоставлено Викискладом.
Микеланджело Буонарроти, Моисей, 1513–1515. Изображение с Викисклада.
После того, как Моисей освободил израильтян из египетского рабства, он получил Десять Заповедей от Бога на горе Синай. Спустившись с горы, Моисей обнаруживает, что его народ создал ложного идола для поклонения, и в гневе разбивает каменные скрижали. Этот напряженный момент часто изображают бурной сценой с дымом и огнем. Рембрандт ван Рейн Моисей, разбивающий скрижали Закона (1659 г.) изолирует бородатого патриарха в коротко стриженой рамке, скрижали держат над его головой, готовые рухнуть. Приглушенная палитра и покорное выражение Моисея служат интимным контрапунктом надвигающейся жестокости его упрека.
В вызывающем много споров отрывке из книги Исход Моисей описывается как имеющий два луча света, исходящих из его головы. При переводе текста с иврита на латынь ученый святой Иероним истолковал эту строку как означающую «выросли рога», а не свет. Это понимание легло в основу многих средневековых и ренессансных изображений Моисея (а также устойчивого антисемитского стереотипа). Ярким примером является 9 Микеланджело.0003 Скульптура Моисея (1513–1515 гг.), Изготовленная для гробницы Папы Юлия II в Сан-Пьетро-ин-Винколи в Риме.
Это понимание легло в основу многих средневековых и ренессансных изображений Моисея (а также устойчивого антисемитского стереотипа). Ярким примером является 9 Микеланджело.0003 Скульптура Моисея (1513–1515 гг.), Изготовленная для гробницы Папы Юлия II в Сан-Пьетро-ин-Винколи в Риме.
David and Goliath
Orazio Gentileschi
David and Goliath , 1605-1608
«За пределами Caravaggio» в национальной галерее, Лондон
Michelangelo Merisi Dafagegio
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111. Davidors Davidors Davidor. Голова Голиафа) , 1598-1599«Караваджо и художники Севера» в музее Тиссена-Борнемисы, Мадрид
Мальчик-пастушок, ставший вторым царем Израиля, Давид любим за объединение двух царств страны и за захват Иерусалима в качестве его столицы. В христианском богословии его часто представляют как прообраз Христа, а согласно Евангелию от Матфея он был прямым предком Иисуса. История юного Давида, победившего великана Голиафа во время битвы между филистимлянами и израильтянами, была популярной темой на протяжении веков; сама тема стала олицетворением храбрости и победы вопреки всему.
Картина Орацио Джентилески « Давид и Голиаф » (1605–08) играет с перспективным любопытством миниатюрного Давида, убивающего гигантского Голиафа. Давид с занесенным над головой клинком готов обезглавить лежащего на спине великана, чье массивное тело занимает большую часть холста. Трактовка Караваджо сюжета Давид с головой Голиафа (1598–1599) показывает момент затишья после действия, когда победоносный Давид собирается забрать свой трофей. Известно, что отрубленная голова Голиафа узнаваема как автопортрет Караваджо.
Юдифь и Олоферн
Артемизия Джентилески
Юдифь и Олоферн , ок. 1620
Галерея Уффици, Флоренция
Кристофано Аллори, Юдифь с головой Олоферна, 1613. Изображение с Wikimedia Commons.
Одноименная героиня, описанная во второканонической Книге Юдифи, является излюбленной роковой женщиной художников, особенно эпохи барокко. Как гласит история, в ночь перед тем, как ассирийская армия должна была осадить еврейский город Вифлея, Юдифь, красивая еврейская вдова, замышляет соблазнить ассирийского полководца Олоферна. Она входит в его палатку — он быстро засыпает пьяным — и обезглавливает его собственным мечом, заканчивая битву до ее начала.
Она входит в его палатку — он быстро засыпает пьяным — и обезглавливает его собственным мечом, заканчивая битву до ее начала.
В произведении Артемизии Джентилески « Юдифь и Олоферн » (ок. 1620 г.) ярко-красная кровь разбрызгивает белые простыни, когда Юдифь безжалостно обезглавливает Олоферна, показанного беспомощным и перевернутым на кровати. Джентилески стал чем-то вроде феминистской иконы; поскольку она сама подвергалась сексуальному насилию, здесь трудно отделить ее собственную историю от выражения мрачной решимости на лице героини. На картине Кристофано Аллори « Юдифь с головой Олоферна » (1613 г.) вместо этого изображена Юдифь со спокойной манерой поведения, победоносно сжимающая отрубленную голову. Интересно, что голова снова является автопортретом художницы (работа может быть автобиографической: ходят слухи, что Аллори написала ее после окончания любовной связи).
Благовещение
Фра Анджелико
Благовещение , 1426
Museo Nacional del Prado
Образ Девы Марии—определенный и возвещающий Гавриилу ее беременность—является божественным Благовещением — взаимодействием между двумя фигурами в картинной плоскости, что подчеркивает трудноразличимую роль Бога в Непорочном зачатии. В « Благовещении » Фра Анджелико (1426) Гавриил входит в архитектурное ограждение Марии и становится перед ней на колени. Плоскость изображения разделена пополам почти сплошным лучом света, который несет голубя Святого Духа к Марии, рука Бога видна в источнике светового луча в верхнем левом углу. В большинстве сцен Благовещения, как и в этом переводе, Богородица изображена молящейся с выражением смирения. Версия Фра Анджелико особенно примечательна включением Адама и Евы в сад снаружи, что является предзнаменованием будущей жертвы нерожденного Христа.
В « Благовещении » Фра Анджелико (1426) Гавриил входит в архитектурное ограждение Марии и становится перед ней на колени. Плоскость изображения разделена пополам почти сплошным лучом света, который несет голубя Святого Духа к Марии, рука Бога видна в источнике светового луча в верхнем левом углу. В большинстве сцен Благовещения, как и в этом переводе, Богородица изображена молящейся с выражением смирения. Версия Фра Анджелико особенно примечательна включением Адама и Евы в сад снаружи, что является предзнаменованием будущей жертвы нерожденного Христа.
Рождество, или Поклонение волхвов
Ян Госсарт, Поклонение королей, 15:10–15. Изображение с Викисклада.
Существующее небольшое описание Рождества, кратко изложенное в Евангелиях от Матфея и Луки, было кристаллизовано художниками в традицию, в которой младенцу Иисусу, лежащему в скромных яслях, сопутствует Богородица; три волхва, или волхва, несущие дары; и животных, таких как быки и овцы. Обработка эпохи Возрождения имела тенденцию одевать мудрецов, астрологов персидского двора, в модную придворную одежду того времени. Подробный отчет Яна Госсарта Поклонение королей (1510–1515) не является исключением. Но в то время как многие работы придерживаются традиционной деревенской обстановки, Госсарт здесь изображает сцену среди классических руин — толстые плиты, крошащиеся под ногами фигур, — что буквально символизирует крушение языческого порядка и рождение нового духовного лидера.
Обработка эпохи Возрождения имела тенденцию одевать мудрецов, астрологов персидского двора, в модную придворную одежду того времени. Подробный отчет Яна Госсарта Поклонение королей (1510–1515) не является исключением. Но в то время как многие работы придерживаются традиционной деревенской обстановки, Госсарт здесь изображает сцену среди классических руин — толстые плиты, крошащиеся под ногами фигур, — что буквально символизирует крушение языческого порядка и рождение нового духовного лидера.
Избиение младенцев
Опасаясь, что младенец Христос, пророчествовавший о новом царе иудейском, узурпирует его трон, Ирод Великий, царь Иудейский, приказал убить всех вифлеемских мужчин младше двух лет . Эта жестокая сцена дала артистам возможность проявить свои мелодраматические мускулы; зверское избиение младенцев воинами Ирода обычно изображается во дворе царя, когда отчаянные, плачущие матери напрасно протестуют. Резная кафедра Джованни Пизано в церкви Сант-Андреа в Пистойе, Италия, является великолепным примером плотных тел, застывших в этом варварском хаосе.
Необычно то, что интерпретация Питера Брейгеля Старшего (ок. 1565–1567 гг.) происходит в заснеженной нидерландской деревушке. Художник намеренно выбрал современную обстановку, чтобы зрители узнали, что библейское событие происходит в городе, похожем на их собственный. Вместо того, чтобы показывать беспорядочную массу фигур, рендеринг Николя Пуссена (1625–1632 гг.) поразительно фокусируется только на одном ребенке, находящемся в опасности, и его матери; солдат давит младенца ногами, а другой рукой отрывает мать за волосы в дерзком и непоколебимом акте жестокости.
Тайная вечеря
Без сомнения, самым известным примером Тайной вечери, когда Христос празднует Пасху с 12 учениками в Иерусалиме, объявляя, что один из них предаст Его, является ныне рассыпающаяся фреска (1495 г.). –98) Леонардо да Винчи в Санта-Мария-делле-Грацие, Милан. Несмотря на то, что это относительно простая сцена, подобные трактовки демонстрируют драматический потенциал Тайной вечери — кажущийся невинным момент прямо перед тем, как судьба Иисуса будет решена.
Этот мотив был разработан Тинторетто в его Тайной вечере (1592–1594) в церкви Сан-Джорджо-Маджоре в Венеции. В то время как на многих более ранних изображениях, в том числе у Леонардо, ученики сидят по обеим сторонам стола с Иисусом в центре композиции, здесь стол повернут под драматическим углом, перпендикулярным плоскости изображения. Преувеличенная перспектива позволяет второстепенным, второстепенным фигурам играть более активную роль, поскольку Христос преломляет хлеб на заднем плане.
Распятие
Диего Веласкес, Распятый Христос , 1632 год. Изображение с Wikimedia Commons.
Жертва жизни Христа, а не его рождение, имеет наибольшее значение в христианском богословии. Как правило, в сцене Распятия Христос подвешен на кресте, а скорбящие — Дева Мария, Мария Магдалина и Иоанн Креститель — у его ног. Его также часто окружают два разбойника, распятые рядом с ним. Также повторяются дополнительные символы, такие как пеликан, ощипывающий свою грудь — повторение жертвоприношения — или череп, предположительно Адама, у подножия креста — символ первородного греха. Диего Веласкес Распятый Христос (1632) убирает сцену, чтобы включить только Христа, освещенного спереди, мягкий ореол света, исходящий из его склоненной головы. Эта лаконичная композиция продолжает вдохновлять художников. Современные интерпретации включают «Три этюда фигур у основания распятия » Фрэнсиса Бэкона «» (1944 г.) и «Распятие г. (Corpus Hypercubus) » (1954 г.) Сальвадора Дали, которые ниспровергают стереотип исследования современных источников человеческих страданий.
Диего Веласкес Распятый Христос (1632) убирает сцену, чтобы включить только Христа, освещенного спереди, мягкий ореол света, исходящий из его склоненной головы. Эта лаконичная композиция продолжает вдохновлять художников. Современные интерпретации включают «Три этюда фигур у основания распятия » Фрэнсиса Бэкона «» (1944 г.) и «Распятие г. (Corpus Hypercubus) » (1954 г.) Сальвадора Дали, которые ниспровергают стереотип исследования современных источников человеческих страданий.
Снятие с креста, или Снятие с креста
Рогир ван дер Вейден
Снятие с креста , 1435
Museo del Prado, Madrid
Снятие Христа с креста после его смерти было амбициозно разработано художниками, стремящимися экспериментировать с композицией, особенно сложно переплетающиеся фигуры. Трактовка Питера Пауля Рубенса, показанная на центральной панели триптиха «Снятие с креста » (1612–1614 гг.) В соборе Богоматери в Антверпене, упивается обмякшим, искривленным телом Христа и физическим притяжением его веса на сопровождающих. фигуры, в том числе Иосиф, Богородица и Мария Магдалина, изо всех сил пытаются снять его с креста. Христос выглядит так, как будто он выпадает из рамы, физическое проявление тяжелой скорби плакальщиков. Точно так же Т-образная форма 9 Рогира ван дер Вейдена0003 Снятие с креста (1435) отражено в положении рук Христа и снова в согнутых руках падающей в обморок Богородицы. Особое внимание уделяется скорбящим лицам, их слезы переданы тонкой кистью.
фигуры, в том числе Иосиф, Богородица и Мария Магдалина, изо всех сил пытаются снять его с креста. Христос выглядит так, как будто он выпадает из рамы, физическое проявление тяжелой скорби плакальщиков. Точно так же Т-образная форма 9 Рогира ван дер Вейдена0003 Снятие с креста (1435) отражено в положении рук Христа и снова в согнутых руках падающей в обморок Богородицы. Особое внимание уделяется скорбящим лицам, их слезы переданы тонкой кистью.
Страшный суд
Ян ван Эйк
Распятие; Страшный суд , ок. 1440–1441
Музей Метрополитен
Микеланджело Буонарроти
Страшный суд, Сикстинская капелла , 1536-1541
Сикстинская капелла, Ватикан
Страшный суд является основным компонентом средневекового церковного убранства; целые стены можно посвятить этой сцене из триповой Книги Откровений, описывающей судный день, или второе пришествие Христа. Восседая на престоле и окруженный апостолами, Христос судит души людей. В то время как ангелы направляют спасенных на небеса, ужасные звери и мучения, ожидающие проклятых внизу, вдохновляли художников на самые изобретательные творения. Иногда трупы поднимаются из могил, или изображается пасть ада, поглощающая мертвых. Джотто Страшный суд (13:00–05) в капелле Скровеньи в Падуе изображает синего демона, поедающего, а затем выделяющего души. Панно Яна ван Эйка «Страшный суд » (ок. 1440–1441 гг.) представляет собой особенно концентрированное видение искривленных тел и монстров, стиснутых вместе под кудахчущим взглядом расставленного крылатого скелета.
В то время как ангелы направляют спасенных на небеса, ужасные звери и мучения, ожидающие проклятых внизу, вдохновляли художников на самые изобретательные творения. Иногда трупы поднимаются из могил, или изображается пасть ада, поглощающая мертвых. Джотто Страшный суд (13:00–05) в капелле Скровеньи в Падуе изображает синего демона, поедающего, а затем выделяющего души. Панно Яна ван Эйка «Страшный суд » (ок. 1440–1441 гг.) представляет собой особенно концентрированное видение искривленных тел и монстров, стиснутых вместе под кудахчущим взглядом расставленного крылатого скелета.
Оливия Макьюэн
Баския Картины, биография, идеи | TheArtStory. Этот головокружительный взлет привел его от сна на улицах Нью-Йорка к дружбе с Энди Уорхолом и вхождению в элитный мир американского искусства в качестве одного из самых знаменитых художников художественного движения неоэкспрессионизма. Хотя Баския умер всего в 27 лет от передозировки героина, теперь он стал неизгладимо ассоциироваться с всплеском интереса к художникам в центре Нью-Йорка во время 19-го века.
 80-е годы.
80-е годы. Его работы исследовали его смешанное африканское, латиноамериканское и американское наследие посредством визуального словаря лично резонирующих знаков, символов и фигур. Большая часть его работ указывала на различие между богатством и бедностью и отражала его уникальное положение цветного человека из рабочего класса в мире искусства знаменитостей. В годы после его смерти внимание к его работам (и ценность) неуклонно росло, а одна картина даже установила новый рекорд в 2017 году по самой высокой цене, уплаченной за работу американского художника на аукционе.
Достижения
- В творчестве Баскии сочетаются разные стили и техники. Его картины часто включали слова и текст, его граффити были выразительными и часто абстрактными, а его логотипы и иконография имели глубокий исторический резонанс. Несмотря на «неизученный» вид его работ, он очень умело и целеустремленно собрал воедино множество разрозненных традиций, практик и стилей для создания своего фирменного визуального коллажа.

- Многие его работы отражают противостояние или напряжение двух полюсов — богатого и бедного, черного и белого, внутреннего и внешнего опыта. Это напряжение и контраст отражали его смешанное культурное наследие и опыт взросления и жизни в Нью-Йорке и в Америке в целом.
- Работа Баскии является примером того, как американские художники 1980-х годов начали заново вводить и отдавать предпочтение человеческой фигуре в своих работах после господства минимализма и концептуализма на международном арт-рынке. Баския и другие художники-неоэкспрессионисты рассматривались как устанавливающие диалог с более отдаленной традицией абстрактного экспрессионизма 1950-х годов и более ранним экспрессионизмом начала века.
- Работы Баския символизируют мировое признание панка, граффити и контркультурных практик, которое имело место в начале 19 века.80-е годы. Понимание этого контекста и взаимосвязи форм, движений и сцен в перестройке мира искусства необходимо для понимания культурной среды, в которой работал Баския.
 Субкультурные сцены, которые ранее считались оппозицией традиционному арт-рынку, преобразились благодаря критике и народному восхвалению их художников.
Субкультурные сцены, которые ранее считались оппозицией традиционному арт-рынку, преобразились благодаря критике и народному восхвалению их художников. - Для некоторых критиков быстрое восхождение Баскии к славе и столь же быстрая и трагическая смерть от передозировки наркотиков олицетворяют и олицетворяют откровенно коммерческую и разрекламированную международную художественную сцену середины 19-го века.80-е годы. Для многих наблюдателей этот период был культурным явлением, которое отрицательно соответствовало в значительной степени искусственной экономике пузыря той эпохи, в ущерб лично художникам и качеству производимых произведений искусства.
Жизнь Жана-Мишеля Баския
«Я хотел быть звездой, а не талисманом галереи», сказал Баския. Его жизнь перекликается с этим подъемом и борьбой и раскрывает важный диалог между подлинностью, репрезентацией, идентичностью и признанием, который лежит в основе понимания его творчества.
Читать Полную биографию
Читать художественное наследие
Важное искусство Жан-Мишель Баскиат
Прогрессирование искусства
Изображения искусства
1980
Само
Басквиат начал рисовать Graffiti в конце 1970-х годов. другие художники субкультуры в Бронксе и Гарлеме. Художники-граффити часто сосредотачивались на фигуративных изображениях (мультяшных изображениях животных, людей и предметов), а также на простых «тегах» — логотипах или именах, предназначенных для использования в качестве товарного знака или визитной карточки, с чего также начинал Баския. Но граффити Баския быстро развивалось в более абстрактном направлении, а происхождение тега «САМО» было довольно загадочным и наполненным символикой.
другие художники субкультуры в Бронксе и Гарлеме. Художники-граффити часто сосредотачивались на фигуративных изображениях (мультяшных изображениях животных, людей и предметов), а также на простых «тегах» — логотипах или именах, предназначенных для использования в качестве товарного знака или визитной карточки, с чего также начинал Баския. Но граффити Баския быстро развивалось в более абстрактном направлении, а происхождение тега «САМО» было довольно загадочным и наполненным символикой.
Эта особая бирка с черной аэрозольной краской на стене является символом работ SAMO, которые Баския и его соратник Аль Диас создали в период между 1976 и 1980 годами. Быстро наносимые на общественные места на улицах и в метро, части SAMO передавались короткими, четкими и часто антиматериалистические сообщения прохожим. Граффити в руках Диаса и Баскии, которые обычно рассматриваются как признак вторжения и вандализма, стали инструментом художественного «бренда» и представляют собой важный этап в развитии творчества Баския.
Концепция SAMO, или «То же самое старое дерьмо», была разработана Баския во время участия в драматическом проекте в Нью-Йорке, где он придумал персонажа, который был посвящен продаже фальшивой религии. Диас и Баския применили скрытую критику, воплощенную в образе этого продавца змеиного масла, к коммерческим и корпоративным предприятиям, которые, как они видели, продавали товары в общественных местах по всему городу. Первоначально они начали распылять слоганы, из которых состоят работы, на поездах метро, чтобы «выпустить пар», но, как вспоминает Диаз, они быстро поняли, что это играет важную роль, когда они сравнили работу с более традиционными тегами граффити. . Как говорит Диас, «SAMO было похоже на курс повышения квалификации, потому что было сделано заявление».
После многих лет сотрудничества Диас и Баския решили обозначить конец своего совместного предприятия объявлением из трех слов: «САМО МЕРТВ». Выполненная эпизодически в различных городах как произведение эфемерного граффити, эта фраза неоднократно появлялась на песчаных зданиях, особенно в Нижнем Манхэттене, где Баския и его сотрудники выполняли большую часть своей художественной деятельности.
Граффити — Местонахождение неизвестно (Нью-Йорк)
1981
Без названия (Череп)
Пример ранней работы Баскии на холсте, Без названия (Череп) представляет собой лоскутный череп, который кажется почти изобразительным эквивалентом монстра из Франкенштейна Мэри Шелли — сконструированная и сшитая сумма неконгруэнтных части. Подвешенный перед фоном, который напоминает о системе метро Нью-Йорка, череп одновременно является отсылкой современного граффитиста к давней западной традиции автопортрета и «визитной карточкой» уличной богемы. Выражение лица, похожего на череп, опущено, а грубые швы указывают на неудачное сочетание составных частей. Используемые цвета, которые смешиваются и переплетаются друг с другом, предполагают синяки или раны на лице, а в сочетании с неровными линиями обозначают насилие или его последствия.
Недавнее прошлое Баския, когда он был торговцем на обочине, бездомным и участником ночного клуба в то время, когда он создавал это произведение, в равной степени запечатлено в проблемном профиле в три четверти. Вместе эти характеристики говорят о том, что произведение становится утомленным миром символом перемещенных пуэрториканских и гаитянских иммигрантов, Баския, казалось, считал себя обреченным остаться, даже успешно перемещаясь по недавно облагороженным улицам Сохо 1980-х годов и арт-рынку, который проявил интерес. в них.
Вместе эти характеристики говорят о том, что произведение становится утомленным миром символом перемещенных пуэрториканских и гаитянских иммигрантов, Баския, казалось, считал себя обреченным остаться, даже успешно перемещаясь по недавно облагороженным улицам Сохо 1980-х годов и арт-рынку, который проявил интерес. в них.
Акрил и смешанная техника на холсте – Поместье Жана-Мишеля Баския Личная иконография Баскии и повторяющиеся символы на черном фоне и размазанные пятна яркой краски. Белый череп выступает из центра композиции из черного дерева, живо напоминая о почитаемой живописной традиции 9-го века.0011 memento mori — напоминание об эфемерности всего живого и возможном безжалостном вырождении тела. Кость справа от холста также может быть прочитана как фаллос, что предполагает представление черной мужской сексуальности как угрожающей или примитивной (особенно когда она расположена рядом со стрелкой на картине). Весы появляются прямо под черепом, возможно, представляя собой весы правосудия и, следовательно, подразумевая неравенство в обращении с чернокожими мужчинами со стороны полиции и системы правосудия, которое сохраняется и по сей день.
Смелые изображения, обычно ассоциирующиеся с сельским африканским искусством — череп, кость, стрела — Баския модернизирует их с помощью своего неоэкспрессионистского стиля густо наложенной краски, быстро прорисованных предметов и нацарапанных линейных символов, которые свободно плавают живописное поле, как бы галлюцинаторное. Баския демонстрирует в одном кратком «этюде», как он может продолжать древнюю практику рисования «натюрмортов», при этом предполагая, что работа художника была относительно легкой, если не полностью импровизационной, как в исполнении джазового музыканта. Тем не менее, плотность образов и их насыщенный символизм раскрывают мастерство Баскии и его способности к композиции.
Акрил, масляная палочка и аэрозольная краска на холсте — Поместье Жана-Мишеля Баския корона. Истощенная черная фигура смотрит с холста на зрителя, ее руки создают замкнутый контур, что может быть ссылкой на одухотворенную энергию, концепция, которая появляется в нескольких работах, посвященных гриот . Работа также отражает развитие Баскии как художника и представляет собой синтез его влияний, а схематическое изображение легких и живота фигуры напоминает об увлечении молодого Баскии анатомическими зарисовками из «Анатомии Грея».
Работа также отражает развитие Баскии как художника и представляет собой синтез его влияний, а схематическое изображение легких и живота фигуры напоминает об увлечении молодого Баскии анатомическими зарисовками из «Анатомии Грея».
В то время как отсутствие отличительных характеристик может подразумевать «обывателя», специфическая африканская этническая принадлежность фигуры дает четкую ссылку на собственную личность и происхождение Баския. В его цветовой палитре и особенном изображении человеческой фигуры с тонкими конечностями и большой головой очевидно влияние форм и форм традиционного западноафриканского искусства. Историк искусства и соавтор Баскии Фред Хоффман пишет, что на изображении изображен король племени, чья «поза с поднятыми и сцепленными над головой руками выражает уверенность и авторитет, атрибуты его героизма. Он, кажется, венчает себя».0005
Учитывая, что гриот традиционно является своего рода бродячим философом, уличным артистом и социальным комментатором, возможно, что Баския видел себя в этой роли в нью-йоркском мире искусства, который способствовал его творческому успеху, но также быстро эксплуатировался. это ради материальной выгоды. Изображение написано на деревянных планках, которые Баския попросил своих помощников снять с забора, ограждавшего границу его мастерской в Лос-Анджелесе. Удалив этот барьер, Баския сделал собственность открытой и по ней можно было свободно перемещаться, возможно, отражая его сочувствие и личный опыт ограниченности общественного пространства в качестве бездомного в Нью-Йорке.
это ради материальной выгоды. Изображение написано на деревянных планках, которые Баския попросил своих помощников снять с забора, ограждавшего границу его мастерской в Лос-Анджелесе. Удалив этот барьер, Баския сделал собственность открытой и по ней можно было свободно перемещаться, возможно, отражая его сочувствие и личный опыт ограниченности общественного пространства в качестве бездомного в Нью-Йорке.
Акриловые и масляные краски на дереве – Частная коллекция
Художественные изображения
1983
Без названия (История чернокожих)
В центре этой картины Баския изображает желтую египетскую лодку, плывущую по реке Нил. богом Осирисом. Две нубийские маски появляются в левой части изображения под словом «NUBA», в то время как ярлыки в стиле граффити нацарапаны над силуэтом черного пса и гласят: «собака, охраняющая фараона». Другой текст на изображении включает в себя «Мемфис [Фивы] Теннесси», «серп» (повторяется несколько раз на центральной панели и напрямую указывает на работорговлю), «болиголов» (в правом нижнем углу), «эсклав рабов-эсклав») наложенный над силуэтом черной человеческой фигуры, а также испанские фразы «El gran espectaculo» (вверху изображения) и «mujer» (рядом с грубо нарисованной фигурой с круглой грудью).
В этом обширном раннем произведении, также известном как «Нил», Баския реконструирует эпическую историю прибытия своих предков на американский континент. Это включает ссылки на Египет и остальную часть Африки, а также на другие местные центры афроамериканской музыки на юге Соединенных Штатов. Картина, изобилующая визуальными и текстовыми отсылками к истории Африки, затрагивает пьянящую тему в рамках фирменной эстетики Баския. Историк искусства Андреа Фроне предполагает, что картина «восстановляет Египет как африканский», пытаясь опровергнуть ревизионистское позиционирование птолемеевского Египта как предшественника западной цивилизации и вместо этого подчеркивая его африканскую идентичность. Это соответствует попыткам афроамериканского сообщества воссоединиться со специфически африканским наследием и историей в XIX веке.80-х, которые, возможно, повлияли на развитие произведения Баския. Куратор Дитер Буххарт утверждает, что «Баския рисовал и рисовал опыт чернокожих, в котором любой человек из африканской диаспоры мог увидеть свое отражение, и привлекал внимание как к своим коллективным успехам, так и к борьбе. Афроамериканцы Баския обычно не только готовы бороться, но и также настроены на сопротивление».
Афроамериканцы Баския обычно не только готовы бороться, но и также настроены на сопротивление».
Многие работы Баскии позднего периода представляют собой похожие многопанельные картины в традициях религиозных триптихов эпохи Возрождения и полотна с открытыми подрамниками. Часто поверхности этих произведений буквально поглощаются плотностью письма, коллажей и разнообразными образами.
Акриловая краска и масляная краска на панели — Поместье Жана-Мишеля Баския в данном случае для пищевой соды Arm and Hammer. Настраивая одну из двух репродукций логотипа, которые появляются на картине, чтобы показать чернокожего саксофониста вместо сгибающейся белой руки, Баския обрамляет изображение текстом, который гласит: «Свобода 19».55″. Вставка изображения творчества чернокожих в рекламный логотип может быть подтверждением активности Баскии и освоением общественного пространства. Это также визуальная отсылка к джазу, афроамериканской музыкальной форме, которая достигла новых высот популярности. в 1950-х годах, а также неявное признание репрессий в отношении чернокожих, которые существовали, несмотря на успех музыки и ее включение в американскую идентичность.
в 1950-х годах, а также неявное признание репрессий в отношении чернокожих, которые существовали, несмотря на успех музыки и ее включение в американскую идентичность.
общественного пространства от Basquiat. Типично для их сотрудничества, Arm and Hammer II демонстрирует, как Баския и Уорхол передавали работу между собой, как азартная игра, свободные ассоциации и взаимное вдохновение. Характерное для Уорхола использование корпоративных логотипов и рекламного текста в качестве условного обозначения материалистической современной психики часто перекрывается попыткой Баския исказить их в своем стиле от руки, как если бы он тщетно замахивался кулаком на практически невидимого, коварного и монолитного монстра. форма корпоративной Америки.
Холст, акрил, шелкография — Галерея Bruno Bischofberger AG по заказу Александра Иоласа, международного художественного галериста и коллекционера. Каждую из десяти белых боксерских груш Баския нарисовал изображением Иисуса, а также несколько раз повторенным на каждой груше словом «Судья». Первоначально произведение предназначалось для показа в Милане, прямо через дорогу от 9-го дома Леонардо да Винчи.0011 Тайная вечеря . В отличие от шедевра эпохи Возрождения, «Десять боксерских груш » должен был функционировать, несколько игриво, как «призыв к оружию» для современного искусства против всех форм идеологического угнетения.
Первоначально произведение предназначалось для показа в Милане, прямо через дорогу от 9-го дома Леонардо да Винчи.0011 Тайная вечеря . В отличие от шедевра эпохи Возрождения, «Десять боксерских груш » должен был функционировать, несколько игриво, как «призыв к оружию» для современного искусства против всех форм идеологического угнетения.
Христианское прочтение произведения было в целом (и, возможно, неожиданно) очень позитивным, изображение Иисуса как боксерской груши соответствовало представлению о том, что Он взял на себя грехи людей, получая удары, чтобы они могли быть свободны. Преподобный Гарольд Т. Льюис писал, что вклад Баскии в произведение связывал роль Иисуса с бедностью, предполагая, что иконография, как религиозная, так и светская, добавленная Баския, создает ситуацию, когда «самого Иисуса-Судью судят по убожеству городской бедности».
Баския и Уорхол предположили, что это произведение было одним из их любимых совместных проектов, поскольку оно представляло собой эффективное сочетание их соответствующих стилей. Оба художника внесли важный вклад в дизайн. Влияние Уорхола становится очевидным благодаря тщательно продуманной цветовой композиции и физической инсталляции, напоминающей несколько его культовых работ. Однако выразительные изображения Иисуса Баския и характерные мотивы короны нарушают четкие линии и организованное размещение, так же как граффити нарушает порядок корпоративного общественного пространства.
Оба художника внесли важный вклад в дизайн. Влияние Уорхола становится очевидным благодаря тщательно продуманной цветовой композиции и физической инсталляции, напоминающей несколько его культовых работ. Однако выразительные изображения Иисуса Баския и характерные мотивы короны нарушают четкие линии и организованное размещение, так же как граффити нарушает порядок корпоративного общественного пространства.
Акриловые и масляные палочки на боксерских грушах — Музей Энди Уорхола внутреннее смятение и растущее убеждение в том, что расистская, классовая и коррумпированная природа Америки 1980-х годов была видна повсюду, в том числе и в мире искусства. Написанная за несколько недель до его смерти, мрачность и грусть изображения и его названия только усиливается сознанием того, что жизнь художника оборвется слишком рано, вскоре после ее завершения.
Менее загроможденный и визуально плотный, чем многие из его ранних картин, Верхом со смертью представляет собой текстурированное коричневое поле, на котором Баския изобразил африканскую фигуру верхом на скелете. Скелет ползет на четвереньках к левой стороне изображения, в то время как всадник, изображенный менее подробно, чем кости, на которых он сидит, корчится или машет руками. Череп обращен к зрителю, его мультяшные пропорции и широкое выражение предполагают жестикуляционное граффити, которое осталось основным стилистическим влиянием на картину Баския. Простота фона и предмета также напоминают о доисторическом пещерном искусстве, а также о более позднем африканском племенном искусстве. Голова африканской фигуры нечеткая, ее черты затемнены черными каракулями, за исключением единственного глаза на лбу.
Скелет ползет на четвереньках к левой стороне изображения, в то время как всадник, изображенный менее подробно, чем кости, на которых он сидит, корчится или машет руками. Череп обращен к зрителю, его мультяшные пропорции и широкое выражение предполагают жестикуляционное граффити, которое осталось основным стилистическим влиянием на картину Баския. Простота фона и предмета также напоминают о доисторическом пещерном искусстве, а также о более позднем африканском племенном искусстве. Голова африканской фигуры нечеткая, ее черты затемнены черными каракулями, за исключением единственного глаза на лбу.
Центральные фигуры, хотя и просто обрамлены, наполнены символикой. Пара предполагает нигилизм или путешествие к смерти, которое становится еще более острым из-за зависимости Баския от героина и других наркотиков во время его рисования. Хотя африканская фигура едет на скелете и, следовательно, может быть прочитана как находящаяся в доминирующем положении, напористое расположение скелета вместо этого предполагает, что он контролирует ситуацию, возможно, перетаскивая всадника к дальней стороне кадра. В сочетании с различием в цвете между ними (белым скелетом и черным всадником) эту пару можно рассматривать как метафору репрессий и разрушения африканских обществ колониальными державами, а также неравенства, существовавшего в 19 веке.Америка 80-х для цветных. Эта работа является прекрасным примером сложных смыслов, которые Баския мог передать и предложить с помощью сложного визуального языка, который критики регулярно называют «примитивным» или «наивным». Как показывает этот трогательный образ, работа Баския была на самом деле очень сложной и технически более совершенной, чем это часто считают.
В сочетании с различием в цвете между ними (белым скелетом и черным всадником) эту пару можно рассматривать как метафору репрессий и разрушения африканских обществ колониальными державами, а также неравенства, существовавшего в 19 веке.Америка 80-х для цветных. Эта работа является прекрасным примером сложных смыслов, которые Баския мог передать и предложить с помощью сложного визуального языка, который критики регулярно называют «примитивным» или «наивным». Как показывает этот трогательный образ, работа Баския была на самом деле очень сложной и технически более совершенной, чем это часто считают.
Холст, акрил, мелки — частная коллекция
Биография Жан-Мишеля Баския
Детство
Жан-Мишель Баския родился в Бруклине в 1960 году. Его мать, Матильда Андрадас, тоже родилась в Бруклине, но у родителей из Пуэрто-Рико. Его отец, Жерар Баския, был иммигрантом из Порт-о-Пренса, Гаити. В результате этого смешанного происхождения молодой Жан-Мишель свободно говорил как на французском, так и на испанском, а также на английском языках. Его раннее прочтение французской символистской поэзии на языке оригинала позже оказало влияние на произведения искусства, которые он создал во взрослом возрасте. Баския проявил талант к искусству в раннем детстве, научился рисовать и раскрашивать при поддержке своей матери и часто использовал материалы (например, бумагу), принесенные домой с работы его отца бухгалтером. Вместе Баския и его мать посетили множество музейных выставок в Нью-Йорке, и к шести годам Жан-Мишель был зачислен младшим членом Бруклинского музея. Он также был увлеченным спортсменом, участвовал в соревнованиях по легкой атлетике в своей школе.
Его раннее прочтение французской символистской поэзии на языке оригинала позже оказало влияние на произведения искусства, которые он создал во взрослом возрасте. Баския проявил талант к искусству в раннем детстве, научился рисовать и раскрашивать при поддержке своей матери и часто использовал материалы (например, бумагу), принесенные домой с работы его отца бухгалтером. Вместе Баския и его мать посетили множество музейных выставок в Нью-Йорке, и к шести годам Жан-Мишель был зачислен младшим членом Бруклинского музея. Он также был увлеченным спортсменом, участвовал в соревнованиях по легкой атлетике в своей школе.
После того, как Баския в возрасте 8 лет попал под машину во время игры на улице, ему сделали операцию по удалению селезенки. Это событие привело к тому, что он прочитал знаменитый медицинский и художественный трактат «Анатомия Грея » (первоначально опубликованный в 1858 году), который ему дала его мать, пока он выздоравливал. Живые биомеханические образы этого текста, а также рисунки из комиксов и карикатуры, которые нравились юному Баскиа, однажды станут основой для граффити-графитных полотен, благодаря которым он стал известен.
После развода родителей Баския жил один со своим отцом, а его мать была признана неспособной заботиться о нем из-за проблем с психическим здоровьем. Ссылаясь на физическое и эмоциональное насилие, Баския в конце концов сбежал из дома и был усыновлен семьей друга. Хотя он время от времени посещал школу в Нью-Йорке и Пуэрто-Рико, куда его отец пытался перевезти семью в 1974 году, в конце концов он бросил среднюю школу Эдварда Р. Мерроу в Бруклине в сентябре 1978 года, в возрасте 17 лет.0005
Раннее обучение
Как сказал Баския: «Я никогда не ходил в художественную школу. Я провалил курсы рисования, которые посещал в школе. Это». Искусство Баскии в основном уходит своими корнями в граффити-сцену Нью-Йорка 1970-х годов. После участия в драматической группе Верхнего Вест-Сайда под названием «Театр семейной жизни» он разработал персонажа САМО (аббревиатура от «То же старое дерьмо»), человека, который пытался продать публике фальшивую религию. В 19В возрасте 76 лет он и его друг-художник Эл Диас начали раскрашивать здания в Нижнем Манхэттене под псевдонимом . Материалы SAMO были в основном основаны на тексте и несли анти-истеблишмент, антирелигиозный и антиполитический посыл. Текст этих сообщений сопровождался логотипами и изображениями, которые позже будут представлены в сольных работах Баския, в частности, трехконечной короной.
Материалы SAMO были в основном основаны на тексте и несли анти-истеблишмент, антирелигиозный и антиполитический посыл. Текст этих сообщений сопровождался логотипами и изображениями, которые позже будут представлены в сольных работах Баския, в частности, трехконечной короной.
Произведения SAMO вскоре привлекли внимание контркультурной прессы, прежде всего Village Voice , издание, документирующее искусство, культуру и музыку, которые считали себя отличными от мейнстрима. Когда у Баскии и Диаса возникли разногласия, и они решили прекратить совместную работу, Баския закончил проект кратким сообщением: САМО МЕРТВ. Это сообщение появилось на фасаде нескольких художественных галерей Сохо и зданий в центре города в 1980 году. Приняв к сведению заявление, друг Баския и соавтор стрит-арта Кит Харинг устроил имитацию поминок в честь SAMO в Club 57, подпольном ночном клубе в Ист-Виллидж.
Удалить рекламу
В этот период Баския часто был бездомным и был вынужден спать в квартирах друзей или на скамейках в парке, поддерживая себя попрошайничеством, торговлей наркотиками и продажей раскрашенных вручную открыток и футболок. Однако он часто посещал клубы в центре города, особенно Mudd Club и Club 57, где он был известен как часть «детской толпы» молодых посетителей (в эту группу также входил актер Винсент Галло). Оба клуба были популярными местами встречи нового поколения визуальных художников и музыкантов, включая Кита Харинга, Кенни Шарфа, кинорежиссера Джима Джармуша и Энн Магнуссон, которые стали друзьями и время от времени сотрудничали с Баския. В частности, Харинг был заметным соперником, а также другом, и их часто вспоминают как соревнующихся друг с другом, чтобы улучшить масштаб, масштаб и амбициозность своей работы. Оба они получили признание в одинаковые моменты своей карьеры, параллельно продвигаясь к вершинам славы в мире искусства.
Однако он часто посещал клубы в центре города, особенно Mudd Club и Club 57, где он был известен как часть «детской толпы» молодых посетителей (в эту группу также входил актер Винсент Галло). Оба клуба были популярными местами встречи нового поколения визуальных художников и музыкантов, включая Кита Харинга, Кенни Шарфа, кинорежиссера Джима Джармуша и Энн Магнуссон, которые стали друзьями и время от времени сотрудничали с Баския. В частности, Харинг был заметным соперником, а также другом, и их часто вспоминают как соревнующихся друг с другом, чтобы улучшить масштаб, масштаб и амбициозность своей работы. Оба они получили признание в одинаковые моменты своей карьеры, параллельно продвигаясь к вершинам славы в мире искусства.
Частично из-за того, что Баския погрузился в центральную жизнь, у него появилось больше возможностей для демонстрации своего искусства, и он стал ключевой фигурой в новом художественном движении в центре города. Например, он появился в качестве ди-джея в ночном клубе в музыкальном клипе Blondie Rapture , укрепив свою репутацию в рамках «новой волны» крутой музыки, искусства и фильмов, зарождающихся в Нижнем Ист-Сайде. В это время он также сформировал и выступал со своей группой Grey. Однако Баския критически относился к нехватке цветных людей в центре города, и в конце 19В 70-х годах он также начал проводить время с художниками граффити в Бронксе и Гарлеме.
В это время он также сформировал и выступал со своей группой Grey. Однако Баския критически относился к нехватке цветных людей в центре города, и в конце 19В 70-х годах он также начал проводить время с художниками граффити в Бронксе и Гарлеме.
После того, как его работа была включена в историческую выставку Times Square Show в июне 1980 года, авторитет Баския поднялся выше, и в 1982 году состоялась его первая персональная выставка в галерее Annina Nosei в Сохо. Статья Рене Рикара Artforum «Сияющее дитя» в декабре 1981 года укрепила положение Баскии как восходящей звезды в мире искусства, а также сочетание граффити в верхней части города и панк-сцен в центре города, которые он представлял. работы. Восхождение Баскии к более широкому признанию совпало с приходом в Нью-Йорк немецкого неоэкспрессионистского движения, которое обеспечило благоприятный форум для его собственного уличного экспрессионизма. Баския начал регулярно выставляться вместе с такими художниками, как Джулиан Шнабель и Давид Салле, каждый из которых в той или иной степени выступал против недавнего господства концептуализма и минимализма в истории искусства. Неоэкспрессионизм ознаменовал возвращение живописи и возрождение человеческой фигуры в современном искусстве. Образы африканской диаспоры и классической Америки акцентировали внимание на работах Баския того времени, некоторые из которых были представлены в престижной галерее Мэри Бун на персональных выставках в середине 19 века.80-х (позже Баскию представлял арт-дилер и галерист Ларри Гагосян в Лос-Анджелесе).
Неоэкспрессионизм ознаменовал возвращение живописи и возрождение человеческой фигуры в современном искусстве. Образы африканской диаспоры и классической Америки акцентировали внимание на работах Баския того времени, некоторые из которых были представлены в престижной галерее Мэри Бун на персональных выставках в середине 19 века.80-х (позже Баскию представлял арт-дилер и галерист Ларри Гагосян в Лос-Анджелесе).
Период зрелости
1982 год был знаменательным для Баския. Он открыл шесть персональных выставок в городах по всему миру и стал самым молодым художником, когда-либо включенным в Documenta, престижную международную феерию современного искусства, которая проводится каждые пять лет в Касселе, Германия. За это время Баския создал около 200 произведений искусства и разработал фирменный мотив: героическую фигуру черного оракула в короне. Легендарный джазовый музыкант Диззи Гиллеспи и боксеры Шугар Рэй Робинсон и Мухаммед Али были одними из источников вдохновения Баския для его творчества в этот период. Эскизные и часто абстрактные портреты отражали сущность, а не физическое подобие своих персонажей. Свирепость техники Баскии с штрихами краски и динамичными штрихами линий была предназначена для того, чтобы раскрыть то, что он видел как внутреннее «я» своих героев, их скрытые чувства и их самые глубокие желания. Эти работы также усиливали интеллект и страсть своих героев, а не были зациклены на фетишизированном черном мужском теле. Еще одна эпическая фигура, основанная на западноафриканской девятке.0011 grriot , также занимает важное место в этой эпохе творчества Баскии. гриот распространял историю сообщества в западноафриканской культуре через рассказывание историй и песни, и Баския обычно изображал его с гримасой и прищуренными эллиптическими глазами, надежно устремленными на наблюдателя. Художественные стратегии и личное влияние Баския соответствовали более широкому черному ренессансу в мире искусства Нью-Йорка той же эпохи (о чем свидетельствует широко распространенное внимание, уделяемое в то время работам таких художников, как Фейт Рингголд и Джейкоб Лоуренс).
Эскизные и часто абстрактные портреты отражали сущность, а не физическое подобие своих персонажей. Свирепость техники Баскии с штрихами краски и динамичными штрихами линий была предназначена для того, чтобы раскрыть то, что он видел как внутреннее «я» своих героев, их скрытые чувства и их самые глубокие желания. Эти работы также усиливали интеллект и страсть своих героев, а не были зациклены на фетишизированном черном мужском теле. Еще одна эпическая фигура, основанная на западноафриканской девятке.0011 grriot , также занимает важное место в этой эпохе творчества Баскии. гриот распространял историю сообщества в западноафриканской культуре через рассказывание историй и песни, и Баския обычно изображал его с гримасой и прищуренными эллиптическими глазами, надежно устремленными на наблюдателя. Художественные стратегии и личное влияние Баския соответствовали более широкому черному ренессансу в мире искусства Нью-Йорка той же эпохи (о чем свидетельствует широко распространенное внимание, уделяемое в то время работам таких художников, как Фейт Рингголд и Джейкоб Лоуренс).
К началу 1980-х Баския подружился с поп-художником Энди Уорхолом, с которым он сотрудничал в серии работ с 1984 по 1986 год, таких как Десять боксерских груш (Тайная вечеря) (1985-86). Уорхол часто сначала рисовал, а затем Баския наслаивал свои работы. В 1985 году в статье журнала New York Times Magazine Баския был объявлен горячим молодым американским художником 1980-х годов. Эти отношения стали предметом разногласий между Баския и многими его современниками в центре города, поскольку они, казалось, знаменовали новый интерес к коммерческому измерению арт-рынка.
Удалить рекламу
Уорхола также критиковали за потенциальное использование молодого и модного цветного художника для повышения его собственной репутации как актуальной и актуальной для новой значимой сцены Ист-Виллидж. Вообще говоря, это сотрудничество не было хорошо воспринято ни публикой, ни критиками, и теперь часто рассматривается как второстепенные работы обоих художников.
Возможно, в результате вновь обретенной славы и коммерческого давления на его работу Баския к этому моменту своей жизни все больше пристрастился как к героину, так и к кокаину. Несколько друзей связали эту зависимость со стрессом, связанным с поддержанием его карьеры, и с давлением быть цветным человеком в преимущественно белом мире искусства. Баския умер от передозировки героина в своей квартире в 19 лет.88 в возрасте 27 лет.
Несколько друзей связали эту зависимость со стрессом, связанным с поддержанием его карьеры, и с давлением быть цветным человеком в преимущественно белом мире искусства. Баския умер от передозировки героина в своей квартире в 19 лет.88 в возрасте 27 лет.
Наследие Жана-Мишеля Баския
За свою короткую жизнь Жан-Мишель Баския, тем не менее, сыграл важную историческую роль в подъеме культурной сцены в центре Нью-Йорка и неоэкспрессионизма. в более широком смысле. В то время как широкая публика ухватилась за поверхностную экзотику его работ и была очарована его мгновенной известностью, его искусство, которое часто неточно описывалось как «наивное» и «этнически твердое», имело важные связи с выразительными предшественниками, такими как Жан Дюбюффе и Сай Твомбли.
Продукт знаменитой и одержимой коммерцией культуры 1980-х годов, Баския и его работы продолжают служить для многих наблюдателей метафорой опасностей художественного и социального излишества. Подобно супергероям из комиксов, оказавшим на него раннее влияние, Баския взлетел к славе и богатству, а затем так же быстро вернулся на Землю, став жертвой злоупотребления наркотиками и возможной передозировки.
Обладатель посмертных ретроспектив в Бруклинском музее (2005 г.) и Музее американского искусства Уитни (1992), а также предмет многочисленных биографий и документальных фильмов, в том числе Жан-Мишель Баския: Сияющее дитя (2010) и художественный фильм Джулиана Шнабеля Баския (1996; в главной роли бывший друг Дэвид Боуи в роли Энди Уорхола) , Баския и его контркультурное наследие сохраняются. В 2017 году был выпущен еще один фильм « Бум по-настоящему: поздние подростковые годы Жана Мишеля Баския », получивший признание критиков, который также послужил источником вдохновения для одноименной выставки в художественной галерее Барбикан в Лондоне. Его искусство остается постоянным источником вдохновения для современных художников, а его короткая жизнь — постоянным источником интереса и спекуляций для художественной индустрии, которая процветает благодаря биографическим легендам.
Удалить рекламу
Наряду с его другом и современником Китом Харингом искусство Баскии стало символом того периода контркультурного нью-йоркского искусства. Работы обоих художников часто выставляются вместе с работами других (последний раз на выставке 2019 года «Кит Харинг и Жан-Мишель Баския: пересечение линий» в Мельбурне, Австралия), и был выдан ряд коммерческих лицензий на воспроизведение нескольких работ. его изобразительных мотивов. Недавно в Uniqlo появился ряд рубашек с графическим принтом, на которых изображены работы обоих художников.
Работы обоих художников часто выставляются вместе с работами других (последний раз на выставке 2019 года «Кит Харинг и Жан-Мишель Баския: пересечение линий» в Мельбурне, Австралия), и был выдан ряд коммерческих лицензий на воспроизведение нескольких работ. его изобразительных мотивов. Недавно в Uniqlo появился ряд рубашек с графическим принтом, на которых изображены работы обоих художников.
Повышение авторитета Баскии после его смерти также подтолкнуло новых художников к созданию работ, вдохновленных его работами или даже напрямую отсылающих к ним. Сюда входят художники, художники-граффити и художники-инсталляторы, работающие в галерее, а также музыканты, поэты и режиссеры. Художники-художники, находящиеся под влиянием Баскии, включают Дэвида Хьюитта, Скотта Хейли, Барб Шерин и Ми Бе в Северной Америке, а также европейских и азиатских художников, таких как Дэвид Джоли, Матье Бернар-Мартен, Микаэль Тео и Андреа Чизези, все из которых цитируют его работа как определяющая для их собственного развития. Такие музыканты, как Kojey Radical, Shabaka Hutchings и Lex Amor, также хвалили его работу как информативную для них самих. Эти три музыкальных исполнителя, в частности, появились вместе с другими на Untitled , совместный сборник, выпущенный как дань уважения Баския в 2019 году лондонским звукозаписывающим лейблом The Vinyl Factory.
Такие музыканты, как Kojey Radical, Shabaka Hutchings и Lex Amor, также хвалили его работу как информативную для них самих. Эти три музыкальных исполнителя, в частности, появились вместе с другими на Untitled , совместный сборник, выпущенный как дань уважения Баския в 2019 году лондонским звукозаписывающим лейблом The Vinyl Factory.
Influences and Connections
Influences on Artist
Influenced by Artist
-
Jean Dubuffet
-
Robert Rauschenberg
-
Cy Twombly
-
Andy Warhol
-
Keith Haring
-
Pop Art
-
Expressionism
-
Neo-Expressionism
-
Julian Schnabel
-
Francesco Clemente
-
Banksy
-
Huma Bhabha
-
Andy Уорхол
-
Кит Харинг
-
Дэвид Салле
-
Кенни Шарф
-
Ann Magnusson
-
Street and Graffiti Art
-
Neo-Expressionism
Open Influences
Close Influences
Useful Resources on Jean-Michel Basquiat
Books
websites
статьи
видеоклипы
Подробнее
Книги
Приведенные ниже книги и статьи представляют собой библиографию источников, использованных при написании этой страницы. Они также предлагают некоторые доступные ресурсы для дальнейших исследований, особенно те, которые можно найти и приобрести через Интернет.
Они также предлагают некоторые доступные ресурсы для дальнейших исследований, особенно те, которые можно найти и приобрести через Интернет.
biography
artworks
View more books
веб-сайтов
статей
видеоклипов
Like Art
Grand Maitre of the Outsider (1947)
Jean Dubuffet
Read more
Skyway (1964)
Robert Rauschenberg
Read more
Leda and the Swan (1962)
Cy Twombly
Read more
Маловероятная история о том, что «перемены грядут»
Полвека назад, 7 марта 1965 года, военные сбили с ног, отравили газом и избили несколько мужчин и женщин, участвовавших в мирном марше за избирательные права в Сельме, Алабама. В тот же день радиослушатели по всей стране могли услышать, как Сэм Кук поет слова, которые он написал и записал несколькими месяцами ранее, но которые могли относиться к противостоянию «Кровавого воскресенья» на мосту Эдмунда Петтуса.
В тот же день радиослушатели по всей стране могли услышать, как Сэм Кук поет слова, которые он написал и записал несколькими месяцами ранее, но которые могли относиться к противостоянию «Кровавого воскресенья» на мосту Эдмунда Петтуса.
_Затем я иду к своему брату
_ _И говорю: «Брат, помоги мне, пожалуйста».
_ _Но он сбивает меня с ног
_ Снова на колени.
Как и марш от Сельмы к Монтгомери, задумчивый, но яркий гимн Кука в защиту гражданских прав «A Change Is Gonna Come» недавно отметил свое пятидесятилетие. Песня, которая была выпущена как сторона B посмертного хита Кука «Shake» всего через несколько дней после его похорон, в декабре 1964 года, вошла в национальные поп- и R&B-чарты в течение первой недели 19 декабря 1964 года.65. Он упал с обратного отсчета поп-музыки после того, как 13 марта достиг 31-го места, и ускользнет из чартов R&B, где он поднялся на 9-е место 10 апреля.
Эти юбилеи прошли без особого празднования— несколько удивительно, учитывая, что запись Кука остается такой же любимой и своевременной, как и прежде. С другой стороны, может случиться так, что постоянная актуальность песни объясняет пренебрежение. Серийные расстрелы безоружных чернокожих правоохранительными органами; отчет Министерства юстиции о злоупотреблениях и коррупции со стороны полиции в Фергюсоне, штат Миссури; выпотрошивание положения Закона об избирательных правах, которое было одним из ключевых последствий маршей Сельмы — эти и другие удручающие заголовки, возможно, сделали уверенный оптимизм шедевра Кука трудным для подпевания, не выглядя наивным. Если бы Кук был жив, чтобы обновить «Перемены грядут» для текущей политической сцены, у него могло бы возникнуть искушение переименовать ее в «Чем больше вещей меняется».
С другой стороны, может случиться так, что постоянная актуальность песни объясняет пренебрежение. Серийные расстрелы безоружных чернокожих правоохранительными органами; отчет Министерства юстиции о злоупотреблениях и коррупции со стороны полиции в Фергюсоне, штат Миссури; выпотрошивание положения Закона об избирательных правах, которое было одним из ключевых последствий маршей Сельмы — эти и другие удручающие заголовки, возможно, сделали уверенный оптимизм шедевра Кука трудным для подпевания, не выглядя наивным. Если бы Кук был жив, чтобы обновить «Перемены грядут» для текущей политической сцены, у него могло бы возникнуть искушение переименовать ее в «Чем больше вещей меняется».
В истории, которая стала символом того, как американская популярная музыка пересекалась с движением за гражданские права и помогала поддерживать его, Кук был мотивирован написать «A Change Is Gonna Come» на основе другого гимна шестидесятых, «Blowin’» Боба Дилана. на ветру.» Когда он впервые услышал эту песню, как пишет Питер Гуральник в 2005 году в книге «Dream Boogie: The Triumph of Sam Cooke», он «был настолько увлечен посланием и тем фактом, что ее написал белый мальчик, что… . . ему было почти стыдно, что он сам не написал что-то подобное».
. ему было почти стыдно, что он сам не написал что-то подобное».
Соул-певец и бывшая звезда госпела еще больше вдохновился, когда услышал, как Питер, Пол и Мэри поют песню Дилана по радио. Как объясняет Дэниел Вольфф в своей биографии Кука 1995 года «Ты присылаешь мне: жизнь и времена Сэма Кука», фолк-трио пробудило коммерческие амбиции Кука. Их запись доказала, что «мелодия может затрагивать гражданские права , а — занять второе место в поп-чартах». Для Кука результатом этих расовых и художественных вызовов стала «Перемена грядут».
Что касается историй о происхождении, то эта достаточно точна и досадно неполна. В нем точно указано, что побудило Кука написать песню протеста на тему гражданских прав, но ничего не говорится о конкретной песне протеста, которую Кук написал, не говоря уже о записи, которую он создал (ключевое различие, которое слишком часто упускается из виду).
Во-первых, «Change» передает сообщение, заметно отличающееся от сообщения Дилана в «Blowin’ in the Wind». На записи Дилан явно обеспокоен проблемами, которые он решает, но его ровная речь не передает ни срочности, ни надежды, ни уверенности, которые так важны в игре Кука. Вскоре после этого Дилан напишет «Только пешка в их игре» в ответ на убийство Медгара Эверса и поедет в Гринвуд, штат Миссисипи, в поддержку регистрации избирателей и выступит на Марше в Вашингтоне за рабочие места и свободу. . Но Дилан из «Blowin’ in the Wind» размышляет о важных вещах от третьего лица, которого песня Кука («Я родился у реки…») избегает прыжка. Дилан задает философские размышления и риторические вопросы среди устаревших слов (во времена «Запрета бомбы» он говорил о «пушечных ядрах»), геологических временных рамок (эти горы, смытые морем) и намеков на Ветхий Завет. . «Blowin’ in the Wind» намекает на то, что ответы, которых мы жаждем, находятся там, где они всегда были и где, к сожалению, вполне могут остаться. «Перемены грядут» однозначно.
На записи Дилан явно обеспокоен проблемами, которые он решает, но его ровная речь не передает ни срочности, ни надежды, ни уверенности, которые так важны в игре Кука. Вскоре после этого Дилан напишет «Только пешка в их игре» в ответ на убийство Медгара Эверса и поедет в Гринвуд, штат Миссисипи, в поддержку регистрации избирателей и выступит на Марше в Вашингтоне за рабочие места и свободу. . Но Дилан из «Blowin’ in the Wind» размышляет о важных вещах от третьего лица, которого песня Кука («Я родился у реки…») избегает прыжка. Дилан задает философские размышления и риторические вопросы среди устаревших слов (во времена «Запрета бомбы» он говорил о «пушечных ядрах»), геологических временных рамок (эти горы, смытые морем) и намеков на Ветхий Завет. . «Blowin’ in the Wind» намекает на то, что ответы, которых мы жаждем, находятся там, где они всегда были и где, к сожалению, вполне могут остаться. «Перемены грядут» однозначно.
Эти две записи также звучат так непохожи друг на друга, как могут быть две пластинки начала шестидесятых: Кук и Дилан в поисках вдохновения пробирались по разным направлениям американской песни. Дилан нашел большую часть своей мелодии в духовной песне девятнадцатого века «No More Auction Block for Me» (также известной как «Many Thousands Gone», которая послужила источником для другого гимна той эпохи, «We Shall Overcome»), в то время как его голос и фразировка, а также его строгое и статичное бренчание обязаны народному стилю эпохи Великой депрессии Вуди Гатри. Напротив, мелодия «A Change Is Gonna Come» с ее длинными динамичными линиями, которые пересекают пики и долины пышного оркестрового пейзажа аранжировщика Рене Холла, показывает, как Кук работает со стандартами Tin Pan Alley, музыкой из фильмов и мелодиями шоу.
Дилан нашел большую часть своей мелодии в духовной песне девятнадцатого века «No More Auction Block for Me» (также известной как «Many Thousands Gone», которая послужила источником для другого гимна той эпохи, «We Shall Overcome»), в то время как его голос и фразировка, а также его строгое и статичное бренчание обязаны народному стилю эпохи Великой депрессии Вуди Гатри. Напротив, мелодия «A Change Is Gonna Come» с ее длинными динамичными линиями, которые пересекают пики и долины пышного оркестрового пейзажа аранжировщика Рене Холла, показывает, как Кук работает со стандартами Tin Pan Alley, музыкой из фильмов и мелодиями шоу.
«Change» открывается царственной сборкой струнных, ударяемых и уносимых ввысь литавром и валторной, все они театрально строятся, а затем быстро убираются к выходу Кука — вы можете представить себе, как певец движется вниз по сцене в центр внимания, или камера приближается к крупному плану. Но в то время как музыкальное оформление грандиозно, рассказ Кука приземлен. Он родился рядом с рекой, которая, как и он, никогда не переставала течь. Его сбили, когда он пытался посмотреть фильм в центре города, и избили на колени, когда он просил о помощи. У него бывали моменты страха и сомнений, но через все это — большой конец — он лелеял веру, а теперь убеждение, что перемены уже в пути. Кий тимпан.
Он родился рядом с рекой, которая, как и он, никогда не переставала течь. Его сбили, когда он пытался посмотреть фильм в центре города, и избили на колени, когда он просил о помощи. У него бывали моменты страха и сомнений, но через все это — большой конец — он лелеял веру, а теперь убеждение, что перемены уже в пути. Кий тимпан.
Ничто из этого не звучит и не ощущается как «Унесенный ветром». Звучит как «Река Старого Мэн».
Сравнение не случайно; мы знаем, что Кук был знаком с этой песней, написанной Джеромом Керном и Оскаром Хаммерстайном из мюзикла 1927 года «Show Boat». Он включил ее версию вместе с «Summertime» и другими классическими произведениями Великого американского песенника в свой дебютный альбом 1958 года. «Я устаю и устаю от попыток / Я устал жить и боюсь умереть», — поет он в своем странно плавном и плавном исполнении мелодии Керна-Хаммерштейна. Шесть лет спустя он преобразовал эти строки во втором куплете «A Change Is Gonna Come»: «Жить было слишком тяжело, но я боюсь умереть».
Этот довольно прямой намек на удивление мало упоминался, по крайней мере, в печати. В своей новой книге «Кто должен петь «Ol’ Man River»?: The Lives of an American Song» Тодд Декер отмечает только то, что в песне Кука, как и в композиции Керна-Хаммерштейна, упоминается река. Что еще более полезно, он отмечает, что «самая плодотворная и занятая эпоха для «Ol’ Man River» — годы, когда она чаще всего включалась в альбомы и исполнялась по телевидению, — простиралась с конца 1950-х до начала 1950-х годов. шестидесятые. Приведу только один пример из десятков: Рэй Чарльз выпустил версию «Ol’ Man River» в 1919 году.63, который прекрасно предвосхищает медленный темп, проникновенную подачу и крупную олдскульную поп-аранжировку «A Change Is Gonna Come». В 1964 году песня Дилана была не единственной песней протеста на расовую тему, которая была развеяна по ветру.
«Река Ол’Мэн» больше всего ассоциируется со зычным афроамериканским певцом, актером и активистом Полом Робсоном. Он не дебютировал с песней на сцене, но Керн и Хаммерштейн написали ее, думая о нем, и он стал отождествляться с этой песней благодаря своим нескольким записям и бесчисленным живым выступлениям, а также его роли в 1936 киноверсий мюзикла.
«Show Boat», как и роман Эдны Фербер, на котором он основан, содержал критику законов о расовых смесях на юге Джима Кроу, а «Ol’ Man River» был призван вызвать в памяти песни менестрелей довоенного и послевоенного времени. Америка, подрывая их симпатии. С этой целью части мелодии Керна для «Ol’ Man River» звучат так, как будто они были написаны автором песен менестреля девятнадцатого века Стивеном Фостером. Керн и Хаммерштейн также ссылаются на еще более старый гимн «Дикси» Дэна Эммета — и выдергивают ковер из-под ног.
«О, если бы я был в стране хлопка», — провозглашает самая печально известная из песен чернолицых менестрелей. «Старые времена там не забыты». В «Ol’Man River» Керн и Хаммерштейн заставляют «Дикси» как бы перейти на другую сторону, заимствуя рифму и, в конце, немного мелодии, чтобы позволить Робсону, а позже Рэю Чарльзу и Сэм Кук и многие другие — чтобы подчеркнуть противоположную расовую точку зрения: белый босс «не сажает картошку, и он не сажает хлопок / и о тех, кто их сажает, скоро забывают».
Благодаря «Ol’ Man River» мы можем перейти от «Дикси», популярной песни, наиболее связанной с Конфедерацией и Джимом Кроу, к «A Change Is Gonna Come», одной из песен, наиболее тесно связанных с гражданскими правами, всего за два шага.
Один из способов прочтения этой истории — отметить, что расизм — не единственное, что осталось в Америке. Музыкальные формы также сохраняются. Иногда старые мелодии будут инструментами, которые мы можем использовать — переработать или перепрофилировать, сэмплировать для танцпола или кричать в толпе, чтобы помочь в работе, которую еще нужно сделать. В «Переменах грядут перемены» Сэм Кук переходит от фанатизма и кровопролития к надежде и красоте всего за три минуты. Но его песня ждала долго, ее генезис растянулся на сто пятьдесят и более лет, от «Blowin ‘in the Wind» до «No More Auction Block», от «Ol’ Man River» до «Dixie». », а также через бесчисленное множество других песен и людей. Послушайте запись сегодня, и вы услышите историю, которая продолжается.





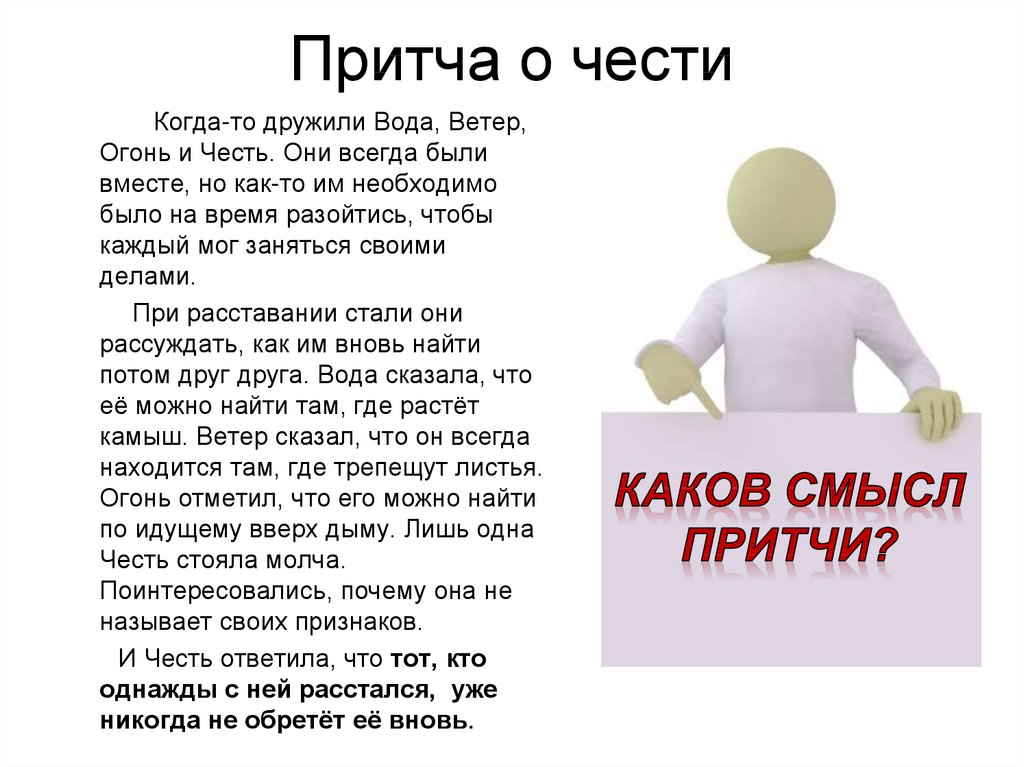 Картины человека, который всю жизнь провел в полунищенском существовании, стали цениться все больше и больше, вскоре взлетев в цене до головокружительных высот, а имя Ван Гога стало частью поп-культуры.
Картины человека, который всю жизнь провел в полунищенском существовании, стали цениться все больше и больше, вскоре взлетев в цене до головокружительных высот, а имя Ван Гога стало частью поп-культуры. У Ван Гога этот пейзаж приобретает характер притчи. Люди, собирающие урожай, становятся символом жизни, представленной художником как тяжелый ежедневный труд.
У Ван Гога этот пейзаж приобретает характер притчи. Люди, собирающие урожай, становятся символом жизни, представленной художником как тяжелый ежедневный труд. Картина проникнута теплыми цветами с преобладанием желтого, который передает душную и прокуренную атмосферу заведения. Зеленый цвет потолка и бильярдного стола скорее передает болезненное ощущение, дополняет картину обилие красного – цвета тревоги и страсти. Стиль, в котором выполнена эта работа Ван Гога, позже будет назван экспрессионизмом.
Картина проникнута теплыми цветами с преобладанием желтого, который передает душную и прокуренную атмосферу заведения. Зеленый цвет потолка и бильярдного стола скорее передает болезненное ощущение, дополняет картину обилие красного – цвета тревоги и страсти. Стиль, в котором выполнена эта работа Ван Гога, позже будет назван экспрессионизмом. Этот физический недостаток наложил отпечаток на дальнейшую жизнь художника. Единственный вид спорта, который был под силу художнику, – это плавание.
Этот физический недостаток наложил отпечаток на дальнейшую жизнь художника. Единственный вид спорта, который был под силу художнику, – это плавание. В дальнейшем Тулуз-Лотрек совершенствует способы и методы передачи психологического состояния моделей, сохраняя при этом интерес к воспроизведению их неповторимого облика.
В дальнейшем Тулуз-Лотрек совершенствует способы и методы передачи психологического состояния моделей, сохраняя при этом интерес к воспроизведению их неповторимого облика. А на следующее утро, в своей студии, по эскизам создавал великолепные картины. Часто рисовал проституток и жизнь монмартрских кабаре, вел соответствующий образ жизни.
А на следующее утро, в своей студии, по эскизам создавал великолепные картины. Часто рисовал проституток и жизнь монмартрских кабаре, вел соответствующий образ жизни.