Психологическая работа с подростками: Ошибка 404. Запрашиваемая страница не найдена
Глава 6 Работа с подростками. Скрытые сокровища. Путеводитель по внутреннему миру ребенка
Глава 6
Работа с подростками
Подросток отнюдь не относится к некоему особому, загадочному подвиду людей, как это склонны думать многие. Он лишь проходит определенные стадии развития, естественные и необходимые. И все мы были такими. Пообщавшись с сотнями подростков, я знаю, насколько отзывчивы они на моих занятиях. Они разумны, проницательны, веселы и страстно стремятся разобраться в себе. И конечно, каждый подросток является индивидуумом со своими особыми потребностями.
Свои учебные семинары я часто называю «Работа с сопротивляющимся подростком». Подобный заголовок привлекает внимание психотерапевтов, так как слово «сопротивление» ассоциируется чаще всего именно с этой возрастной группой. Действительно, большинство подростков по своей природе склонны к сопротивлению. Просто одни честнее других и проявляют его более открыто. Если подросток покладист и с самого начала готов к полноценному сотрудничеству, то, скорее всего, он стремится представить себя в более выгодном свете.
В этой главе я представлю некоторые техники, которые кажутся мне эффективными при работе с данной возрастной группой, и опишу соответствующие случаи из практики. Прежде всего, позвольте сказать несколько слов о подростках. Вероятно, вы все это уже знаете, но все же такое введение необходимо.
Задача, стоящая перед человеком в подростковом возрасте, заключается в том, чтобы найти свою идентичность и стать самим собой. Самоутверждение начинается еще в младенчестве, когда ребенок вступает в первые битвы за то, чтобы отстоять свое «Я». Однако в подростковом возрасте эта не новая уже цель приобретает первостепенное значение. На каждом этапе развития дети находятся в поиске своей самости и нащупывают ее границы.
Известный приверженец гештальт-терапии Марк Макконвиль в своей книге, посвященной подростковому периоду (McConville, 1995), уделяет очень большое внимание молодой формирующейся личности. Он считает, что подростки, особенно младшего возраста, не задают себе вопрос, кто они. Это не процесс познания. Становление самости на данном этапе происходит под влиянием эмоций и чувств – опыта внутренних ощущений.
Конечно, багаж прошлого опыта многократно осложняет эту важную задачу подростка. В очень раннем возрасте ребенок вырабатывает свой способ бытия, свои приемы совладания и выживания, которых затем придерживается по мере своего развития, так что к подростковому возрасту у него складываются довольно устойчивые формы защитного поведения. Маленькие дети учатся удовлетворять свои потребности любым доступным им способом, а процесс научения этим навыкам идет по схеме проб и ошибок.
Малыш может стать замкнутым и тихим, его начинает мучить головная боль или боль в животе. Его злость может проецироваться на других людей. Он перестает слушаться и испытывает вспышки гнева, может стать гиперактивным или рассеянным. Он мочится в постель, у него развивается энкопрез, появляются ночные кошмары. Это лишь несколько возможных вариантов поведения или симптомов, и они становятся способом существования ребенка в мире, способом преодоления стрессов, с которыми он сталкивается на своем пути. Одновременно ослабляется и чувство собственного «Я», поскольку гнев – это проявление самости, а когда он сдерживается, то и самость страдает.
Это лишь несколько возможных вариантов поведения или симптомов, и они становятся способом существования ребенка в мире, способом преодоления стрессов, с которыми он сталкивается на своем пути. Одновременно ослабляется и чувство собственного «Я», поскольку гнев – это проявление самости, а когда он сдерживается, то и самость страдает.
У подростков такие формы поведения могут трансформироваться в более изощренные способы самоанастезии, помогающей избежать проявления чувств, поскольку ведь им уже известно, что эмоции таят в себе опасность. Именно поэтому бичом молодежной популяции являются употребление наркотиков, беспорядочная половая жизнь, расстройства пищевого поведения, асоциальные поступки и суицидальные наклонности.
Маленький ребенок – предшественник подростка – получает множество вредных интроектов, которые продолжают давить на него и в юности, и во взрослом возрасте. Эмоции, воспоминания и фантазии прошлого препятствуют нормальному развитию организма. Юноша обнаруживает в своей душе пласт чувств, которые сложно разделить с семьей. Он просто не в состоянии выразить их словами. Подросток не может рисковать, демонстрируя свою уязвимость, иначе он потеряет свое хрупкое «Я». Ему нужна помощь для выражения таких чувств, как беспокойство и одиночество, отчаяние и пренебрежение к себе, сексуальная неловкость и страх. Молодому человеку необходимо наглядно показать, каким образом он сам нарушает процесс своего здорового развития. И именно эту задачу мы должны решить.
Он просто не в состоянии выразить их словами. Подросток не может рисковать, демонстрируя свою уязвимость, иначе он потеряет свое хрупкое «Я». Ему нужна помощь для выражения таких чувств, как беспокойство и одиночество, отчаяние и пренебрежение к себе, сексуальная неловкость и страх. Молодому человеку необходимо наглядно показать, каким образом он сам нарушает процесс своего здорового развития. И именно эту задачу мы должны решить.
В 1985 г. я прочитала одну статью, так хорошо описывающую проблемы подросткового возраста, что мне бы хотелось процитировать ее здесь. Даже спустя много лет она по-прежнему актуальна:
«Превращение ребенка во взрослого – это, пожалуй, самый травмирующий из всех жизненных процессов, но именно в хаосе подросткового периода и происходит нормальное формирование идентичности. Частью этого процесса является поведение, которое мы называем отыгрыванием вовне. На самом деле, это эксперименты ребенка со своей идентичностью. Он может перестать слушаться, начать протестовать, стать упрямым или грубо разговаривать. Со стороны кажется, что молодой человек действует импульсивно, но на самом деле он лишь пытается разобраться с понятиями самостоятельности и зависимости. Величайшая и одна из самых сложных истин заключается в том, что в период формирования идентичности непослушание в умеренных количествах подростку просто необходимо. Важно не то, что он делает, а в какой степени он вовлечен в процесс, что имеет реальную разрушительную силу, а что – нет» (из информационного бюллетеня клиники Виста дель Мар в г. Торренс, Калифорния: «Нормальный подросток: существует ли он?», написанного д-ром Кевином Коксом).
Со стороны кажется, что молодой человек действует импульсивно, но на самом деле он лишь пытается разобраться с понятиями самостоятельности и зависимости. Величайшая и одна из самых сложных истин заключается в том, что в период формирования идентичности непослушание в умеренных количествах подростку просто необходимо. Важно не то, что он делает, а в какой степени он вовлечен в процесс, что имеет реальную разрушительную силу, а что – нет» (из информационного бюллетеня клиники Виста дель Мар в г. Торренс, Калифорния: «Нормальный подросток: существует ли он?», написанного д-ром Кевином Коксом).
Итак, мы знаем, что происходит, и имеем некоторые соображения, что нужно делать. Но как? Как помочь ребенку преодолеть его сопротивление и нежелание заниматься поиском самого себя и пределов своей самости, чтобы он смог прожить здоровую, продуктивную, хорошую жизнь в этом полном стрессов несовершенном обществе?
Мои подростковые годы
Я даже не говорю об эпохе, в которую живут современные подростки, и с чем они сталкиваются в нашем мире.
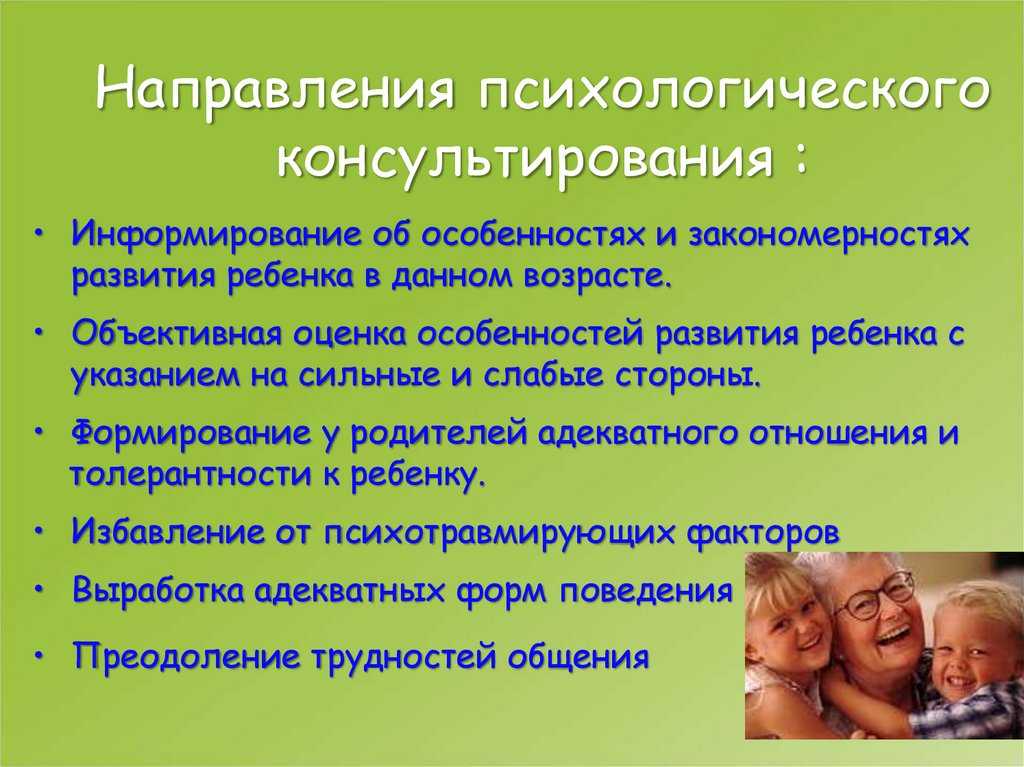
Тинэйджеры в США были тогда на «домашнем фронте». Молодые мужчины ушли за океан воевать, но мы никогда не были в опасности, как подростки в Европе и Азии. Мы были лишены каких-то вещей, но для меня это не составляло проблемы. Два моих старших брата участвовали в боях: один – в Европе, а другой – в Южно-Тихоокеанском регионе. Я гордилась, что на окне нашего дома были вывешены две звезды. Но внезапно война заявилась и в наш дом, когда за несколько месяцев до конца военных действий один из моих братьев был убит в Германии. А потом мы начали получать вести об ужасающем истреблении евреев. Я вспоминаю, как думала, что если бы мои родители не эмигрировали в Соединенные Штаты, мы могли бы погибнуть. Эти мысли оказались столь серьезными для меня, что сильно подстегнули мое взросление. Иногда я спрашиваю себя, в чем проявлялся мой личный протест. Вероятно, война поставила меня и моих ровесников в нестандартные условия формирования нашей идентичности.
У современной молодежи другая жизнь. Когда я пишу эти строки, наша страна ведет войну с Ираком. Будущее нелегко планировать. Профессии быстро устаревают. Компании сокращают штаты или привлекают внештатных сотрудников. Экономика пребывает в ужасном состоянии. Отсутствие сбережений затрудняет получение образования. Ничто не дается современному подростку просто и легко.
Между тем для психологов открывается огромное поле деятельности. Давайте посмотрим, какие терапевтические подходы используются для решения юношеских проблем.
Психотерапия
В процессе терапии важно иметь в виду те крайности, которые характерны для подростка. Это как раздвоение личности. Одно «Я» несет груз прошлого опыта. Ведь сформировавшаяся в детстве самость не исчезает по мановению волшебной палочки. Это интроектированная самость, зависящая от целей и стандартов родителей. Это «Я» черпает самооценку из одобрения родных и принимает ценности взрослого мира без конфликтов. Второе «Я» – это вновь зарождающаяся самость подростка. Она очень тесно связана с чувственными переживаниями, которые еще более усиливаются в период бурных телесных изменений. Подросток чувствует себя все более самостоятельным, он начинает идентифицироваться со своим опытом и отделять его от межличностных и семейных переживаний. Он остро осознает различие между собственным опытом и семейными установками, которые впитала другая часть его самости (McConville, 1995).
Это как раздвоение личности. Одно «Я» несет груз прошлого опыта. Ведь сформировавшаяся в детстве самость не исчезает по мановению волшебной палочки. Это интроектированная самость, зависящая от целей и стандартов родителей. Это «Я» черпает самооценку из одобрения родных и принимает ценности взрослого мира без конфликтов. Второе «Я» – это вновь зарождающаяся самость подростка. Она очень тесно связана с чувственными переживаниями, которые еще более усиливаются в период бурных телесных изменений. Подросток чувствует себя все более самостоятельным, он начинает идентифицироваться со своим опытом и отделять его от межличностных и семейных переживаний. Он остро осознает различие между собственным опытом и семейными установками, которые впитала другая часть его самости (McConville, 1995).
Подросток начинает испытывать дискомфорт, так как его мысли, чувства, побуждения, ощущения и предпочтения все меньше и меньше соответствуют навязанному ему образу. Когда подросток осознает эти противоречия, он в большинстве случаев будет чувствовать себя увереннее и взрослее, чем если бы он не понимал, что с ним происходит. Ему надо избавиться от старого «Я», но это весьма непросто. Это напоминает идею Фрица Перлза о «плодородной пустоте» или «мертвом пространстве» – месте, расположенном между старым и новым путями развития, где нет привычных систем поддержки (Rubenfeld, 1992). Многие дети не желают понимать и признавать существование подобной внутренней борьбы. Они все проецируют на мир старших. Все трудности создают взрослые, а своих проблем у подростков нет. Они лишь жертвы. (В некоторой степени это правда.) Однако, не принимая на себя ответственности и не видя истинного положения вещей, дети все больше и больше застревают в роли жертвы.
Ему надо избавиться от старого «Я», но это весьма непросто. Это напоминает идею Фрица Перлза о «плодородной пустоте» или «мертвом пространстве» – месте, расположенном между старым и новым путями развития, где нет привычных систем поддержки (Rubenfeld, 1992). Многие дети не желают понимать и признавать существование подобной внутренней борьбы. Они все проецируют на мир старших. Все трудности создают взрослые, а своих проблем у подростков нет. Они лишь жертвы. (В некоторой степени это правда.) Однако, не принимая на себя ответственности и не видя истинного положения вещей, дети все больше и больше застревают в роли жертвы.
Работая с подростками, я чаще всего встречаюсь с такими механизмами защиты, как проекция, отрицание и фантазия.
Эти защитные механизмы, которые часто выглядят как сопротивление, на самом деле являются способами самосохранения, совладания и выживания. Чем крепче подросток связан со своей семьей, чем сильнее она его удерживает, чем больше их слияние, тем сильнее проявляются защитные механизмы.
Работа с семьей имеет свои специфические особенности; здесь мы можем оценить навыки общения, степень единения членов семьи и их роли, принятые или навязанные, обсудить их желания и потребности, выяснить, что мешает их достижению, помочь им выразить чувства, понять скрытые за обычными словами послания и т. д. Это очень важная работа, которая должна дополнять мои индивидуальные сессии. Проблемные подростки предпочитают работать со мной индивидуально, поскольку так мы можем вскрыть терзающие их противоречия. Ведь одной ногой подросток стоит в семье, а другой – во внешнем мире. Оба этих пространства заполнены потенциальными источниками беспокойства и страхов. Самооценка подростка страдает под влиянием семейного опыта, создающего негативные интроекты. Я считаю, что подросток должен самостоятельно проделать работу, которая поможет ему справиться с задачами сепарации, нахождения собственных границ, самоопределения, чтобы он начал понимать свои чувства и научился их расчленять и вербализовать.
Работая с подростками, я, по возможности, следую своей политике присутствия родителей на первой сессии. Конечно, исключений много: ребенок приходит самостоятельно и отказывается от присутствия близких; подросток воспитывается в приемной семье, с которой не сумел найти контакта, или живет в каком-либо заведении или в детском доме. При любой возможности я стараюсь встретиться с взрослыми, которые живут вместе с ребенком. Это позволяет ощутить, как он живет, выявить разные точки зрения, прояснить причины обращения за помощью и оценить динамику процесса. Я должна ознакомиться с различными взглядами – узнать, что говорят родители, а что – дети, и, возможно, выяснить, что они думают в действительности. На первой сессии я спрашиваю ребенка, согласится ли он несколько раз прийти на занятия один, чтобы мы смогли познакомиться с ним поближе. После этого мы принимаем решение, как будут организованы наши встречи. Подросток может отказаться, однако такой подход снимает напряженность и позволяет завуалировать вопрос о его болезни. Опираясь на всю эту первоначальную информацию, я и начинаю свою работу.
Опираясь на всю эту первоначальную информацию, я и начинаю свою работу.
Бывает, однако, что подросток категорически отказывается от индивидуальных встреч. Матери-одиночке, которая, по ее же словам, испытывала огромные сложности в отношениях с шестнадцатилетним сыном, удалось уговорить его прийти на сессию. Первое занятие, с моей точки зрения, прошло замечательно, но мальчик отказался прийти снова, а мать не чувствовала в себе сил противостоять его воле. Я предложила ей прийти одной. В процессе нашей работы женщина поняла, как крепко она держится за сына и как он необходим ей для поддержания собственной самооценки. По мере того как мать вырабатывала в себе способность отпускать мальчика от себя и ее собственное «Я» укреплялось, она заметила, что юноша стал сближаться с ней и теперь их отношения ее полностью устраивали. Он стал интересоваться, о чем мы говорим на занятиях, хотя по-прежнему не желал встречаться с терапевтом.
Взаимоотношения
Прежде чем пытаться решать какие-либо терапевтические задачи, необходимо построить отношения с ребенком. Моя позиция основана на искренности, я не выражаю суждений, не пытаюсь манипулировать. Такой подход обычно позволяет довольно быстро установить эти важные Я/Ты отношения. Мне нужно принять ребенка без каких-либо предварительных оценок.
Моя позиция основана на искренности, я не выражаю суждений, не пытаюсь манипулировать. Такой подход обычно позволяет довольно быстро установить эти важные Я/Ты отношения. Мне нужно принять ребенка без каких-либо предварительных оценок.
Одна четырнадцатилетняя девочка была направлена ко мне по решению суда. Она была включена в программу консультирования подростков, нарушивших закон. Мы встретились трижды, и я поняла, что девушку нужно направить к другому специалисту. Она ни разу не ответила на мои обращения, не взглянула на меня и обычно сидела застывшая и молчаливая. Я решила дать ей еще один шанс. Выйдя в комнату ожидания, я увидела, что девушка читает журнал. Возможно, так было и перед другими занятиями, но в суете это ускользнуло от моего внимания. Тогда, присев рядом, я спросила: «Что ты читаешь?» Она быстро развернула журнал в мою сторону и вернулась к своему занятию. Это был первый ответ, который я получила от нее. Тогда я сказала: «Я не видела». И девочка повернула журнал в мою сторону немного медленнее. Это был журнал, посвященный тяжелому року. Я поинтересовалась, можно ли посмотреть журнал вместе с ней. Ведь я практически незнакома с подобной музыкой, но у меня бывают клиенты, которые, как и она, тоже ей увлекаются. Мы прошли в кабинет и провели все занятие за чтением журнала. Девочка рассказывала о разных группах и о своих любимых исполнителях. Мы даже попытались, правда, безуспешно, найти какие-то песни на моем радио. Тогда я попросила ее принести несколько кассет, и она с радостью согласилась. Нет нужды говорить, что у нас установились замечательные отношения, а слова некоторых песен стали отличным материалом для дальнейшей работы.
Это был журнал, посвященный тяжелому року. Я поинтересовалась, можно ли посмотреть журнал вместе с ней. Ведь я практически незнакома с подобной музыкой, но у меня бывают клиенты, которые, как и она, тоже ей увлекаются. Мы прошли в кабинет и провели все занятие за чтением журнала. Девочка рассказывала о разных группах и о своих любимых исполнителях. Мы даже попытались, правда, безуспешно, найти какие-то песни на моем радио. Тогда я попросила ее принести несколько кассет, и она с радостью согласилась. Нет нужды говорить, что у нас установились замечательные отношения, а слова некоторых песен стали отличным материалом для дальнейшей работы.
Я поняла, насколько важно в моей работе внимание, наблюдательность и полная включенность. В другой раз мне пришлось столкнуться с тринадцатилетним юношей, проявлявшим резко выраженное сопротивление. К моменту нашей встречи он уже попал в седьмую приемную семью и был кандидатом для отправки в государственную клинику, где было специальное отделение для «неисправимых подростков». В то время я оказывала помощь разным детям, которые имели выраженные эмоциональные нарушения и жили в приемных семьях и приютах. Было принято решение, что перед отправкой в клинику я проведу с мальчиком несколько терапевтических сеансов. Социальный работник поведал мне о прошлом ребенка по телефону, привел его в мой офис и там оставил. Парень сделал несколько напряженных шагов и застыл посредине комнаты. Встав напротив, я сказала: «Я знаю, ты, скорее всего, не хотел приходить, но раз уж мы встретились, позволь мне рассказать, что я о тебе знаю, а ты скажешь, насколько это верно». Пока я пересказывала ему все, что мне было известно, напряжение мальчика немного ослабло и он поправил несколько деталей. Потом, уже более твердым голосом, я попросила: «Присядь, Джейсон». Он опустился на кушетку, а я поведала о своих планах взять его с собой в воображаемое путешествие. В его же задачу входило по завершении «прогулки» нарисовать мне что-нибудь из полученных впечатлений. Как обычно, я предложила ему на выбор листы бумаги разных размеров, мелки, пастели, маркеры и цветные карандаши.
В то время я оказывала помощь разным детям, которые имели выраженные эмоциональные нарушения и жили в приемных семьях и приютах. Было принято решение, что перед отправкой в клинику я проведу с мальчиком несколько терапевтических сеансов. Социальный работник поведал мне о прошлом ребенка по телефону, привел его в мой офис и там оставил. Парень сделал несколько напряженных шагов и застыл посредине комнаты. Встав напротив, я сказала: «Я знаю, ты, скорее всего, не хотел приходить, но раз уж мы встретились, позволь мне рассказать, что я о тебе знаю, а ты скажешь, насколько это верно». Пока я пересказывала ему все, что мне было известно, напряжение мальчика немного ослабло и он поправил несколько деталей. Потом, уже более твердым голосом, я попросила: «Присядь, Джейсон». Он опустился на кушетку, а я поведала о своих планах взять его с собой в воображаемое путешествие. В его же задачу входило по завершении «прогулки» нарисовать мне что-нибудь из полученных впечатлений. Как обычно, я предложила ему на выбор листы бумаги разных размеров, мелки, пастели, маркеры и цветные карандаши. (Дети редко останавливаются на мелках.) Потом, по моей просьбе, Джейсон устроился поудобнее, закрыл глаза – и путешествие началось. (Обычно в ходе таких занятий я закрываю глаза, но многие ребята предпочитают этого не делать – я знаю об этом, поскольку подглядываю за ними.) Сначала глаза Джейсона тоже были открыты, но потом мальчик откинулся назад и выполнил мою просьбу. Перед началом воображаемого путешествия я провела короткое упражнение на релаксацию, завершив его звуком китайского гонга. Потом мы отправились в долгую прогулку по лугам, горам и пещерам к двери, которая открывалась в самое любимое местечко Джейсона (см.: Окна в мир ребенка, с. 9–10).
(Дети редко останавливаются на мелках.) Потом, по моей просьбе, Джейсон устроился поудобнее, закрыл глаза – и путешествие началось. (Обычно в ходе таких занятий я закрываю глаза, но многие ребята предпочитают этого не делать – я знаю об этом, поскольку подглядываю за ними.) Сначала глаза Джейсона тоже были открыты, но потом мальчик откинулся назад и выполнил мою просьбу. Перед началом воображаемого путешествия я провела короткое упражнение на релаксацию, завершив его звуком китайского гонга. Потом мы отправились в долгую прогулку по лугам, горам и пещерам к двери, которая открывалась в самое любимое местечко Джейсона (см.: Окна в мир ребенка, с. 9–10).
Я закончила, и мальчик, к моему удивлению (мне казалось, что он спит), открыл глаза и начал рисовать фломастерами. Сессия прошла великолепно. Я опишу ее позже. Мы встречались раз в неделю на протяжении четырех месяцев, и Джейсона не отправили в клинику. Правда, по его же просьбе, он был переведен в другую приемную семью.
Из этого опыта я вынесла понимание того, как важно начать общение с подростком на его же ноте: он был «крепкий орешек», и я сохраняла твердость. Ключом, конечно, послужило мое решение поделиться с мальчиком информацией, которую мне о нем рассказали. По завершении занятий я спросила у Джейсона, что ему больше всего запомнилось в нашей работе. Он сказал: «Мне запомнилась первая сессия. Вы не читали мне нотаций о моем плохом поведении, как все остальные. Мы фантазировали, рисовали, но вы ни разу не напомнили мне, что стало причиной моих проблем». Я действительно не концентрирую внимания на поведении. С моей точки зрения, это лишь симптом и молодой человек редко способен сознательно изменить свое поведение.
Ключом, конечно, послужило мое решение поделиться с мальчиком информацией, которую мне о нем рассказали. По завершении занятий я спросила у Джейсона, что ему больше всего запомнилось в нашей работе. Он сказал: «Мне запомнилась первая сессия. Вы не читали мне нотаций о моем плохом поведении, как все остальные. Мы фантазировали, рисовали, но вы ни разу не напомнили мне, что стало причиной моих проблем». Я действительно не концентрирую внимания на поведении. С моей точки зрения, это лишь симптом и молодой человек редко способен сознательно изменить свое поведение.
На первом занятии я часто прошу клиента нарисовать дом, дерево и человека на одном листе бумаги с любыми дополнениями по его выбору. Ребенок приходит ко мне с чувством неловкости и беспокойства, задающийся вопросом (я в этом уверена), что же произойдет дальше. Как правило, простого общения с ним недостаточно, чтобы узнать, что у него в голове. Выполнить рисуночный тест Дом – Дерево – Человек (Jolles, 1986) несложно, ведь большинство детей рисует дома и деревья с очень раннего возраста. Я говорю: «Мне бы хотелось, чтобы ты кое-что сделал. Нарисуй картину, на которой будет дом, дерево, человек и еще что-нибудь, что тебе захочется. Не пытайся создать шедевр, мне даже не нужно, чтобы ты сильно старался: у нас просто нет на это времени.
Я говорю: «Мне бы хотелось, чтобы ты кое-что сделал. Нарисуй картину, на которой будет дом, дерево, человек и еще что-нибудь, что тебе захочется. Не пытайся создать шедевр, мне даже не нужно, чтобы ты сильно старался: у нас просто нет на это времени.
Когда будешь готов, я расскажу кое-что о тебе по твоему рисунку, а ты сможешь меня поправить».
У меня есть набор мелков, пастелей и фломастеров, но мальчики двенадцати – шестнадцати лет, как правило, просят карандаш или черный фломастер. Некоторые даже просят линейку. Я выкладываю все это богатство, но не использую полученный рисунок как материал для интерпретации теста. Когда ребенок заканчивает работу, я рассказываю ему, что, на мой взгляд, означает его рисунок, и спрашиваю его, верно ли это. Иногда я высказываю собственные мысли, а в некоторых случаях зачитываю выдержки непосредственно из руководства к тесту (Jolles, 1986).
Наблюдение за успехами ребенка само по себе может принести немало открытий. Одного двенадцатилетнего мальчика привели ко мне, потому что он пытался поджечь собственный дом. Ли был единственным ребенком и жил с отцом. Мать умерла, когда мальчику было шесть лет. На первой сессии с отцом он молчал. Мужчина был ошеломлен поведением сына: «Он обычно ведет себя хорошо – надолго остается один. Я работаю допоздна, но, как правило, могу не волноваться о нем. Единственная проблема с ним в том, что он никогда не делает уроки и не выполняет поручений по дому, которые я ему даю. Мне кажется, это просто лень». Оставшись наедине с мальчиком, я попросила его нарисовать дом, дерево и человека. Он изобразил большой дом с кирпичной кладкой вдоль одной из стен. Коричневым маркером он начал тщательно раскрашивать каждый кирпич. Поняв, что такими темпами он никогда не закончит, я заметила: «Ли, я поняла, что все кирпичи коричневые, просто доделай оставшуюся часть картины». Когда работа подошла к концу, я сказала: «Этот рисунок может кое-что рассказать о тебе. Давай проверим вместе, не ошибаюсь ли я. Во-первых, ты так старательно раскрашивал кирпичи, что мне пришлось остановить тебя, потому что иначе ты бы никогда не закончил.
Ли был единственным ребенком и жил с отцом. Мать умерла, когда мальчику было шесть лет. На первой сессии с отцом он молчал. Мужчина был ошеломлен поведением сына: «Он обычно ведет себя хорошо – надолго остается один. Я работаю допоздна, но, как правило, могу не волноваться о нем. Единственная проблема с ним в том, что он никогда не делает уроки и не выполняет поручений по дому, которые я ему даю. Мне кажется, это просто лень». Оставшись наедине с мальчиком, я попросила его нарисовать дом, дерево и человека. Он изобразил большой дом с кирпичной кладкой вдоль одной из стен. Коричневым маркером он начал тщательно раскрашивать каждый кирпич. Поняв, что такими темпами он никогда не закончит, я заметила: «Ли, я поняла, что все кирпичи коричневые, просто доделай оставшуюся часть картины». Когда работа подошла к концу, я сказала: «Этот рисунок может кое-что рассказать о тебе. Давай проверим вместе, не ошибаюсь ли я. Во-первых, ты так старательно раскрашивал кирпичи, что мне пришлось остановить тебя, потому что иначе ты бы никогда не закончил. Интересно, случалось ли так в твоей жизни раньше? Тебе хочется делать все очень хорошо, по высшему стандарту, но у тебя не получается довести дело до конца, так как это отнимает слишком много времени? Поэтому люди считают тебя ленивым?»
Интересно, случалось ли так в твоей жизни раньше? Тебе хочется делать все очень хорошо, по высшему стандарту, но у тебя не получается довести дело до конца, так как это отнимает слишком много времени? Поэтому люди считают тебя ленивым?»
Ли залился слезами. «Все думают, что я ленивый! Отец, учителя!.. А я так стараюсь!» Он еще немного поплакал, но уходил от меня с улыбкой. Мне стало ясно, что нужно найти источник проблемы: смерть матери, одиночество, постоянное отсутствие отца. Поджог дома, безусловно, был лишь отчаянной попыткой привлечь внимание.
Это одно из самых удачных упражнений, которое я использую, чтобы наладить взаимоотношения, узнать ребенка и дать ему почувствовать, что его слушают. Дети испытывают неизменную потребность иметь рядом кого-то, кто бы их слушал, поощрял и мог ненавязчиво и надежно поддержать в трудную минуту. Когда я начинаю так себя вести на первой сессии, я удовлетворяюсь тем материалом, который дает мне сам ребенок. Я использовала это упражнение даже с шестилетними детьми, но поняла, что подростки откликаются на него с гораздо большим энтузиазмом. Одна шестнадцатилетняя девушка, проявлявшая сильное сопротивление, в корне изменила отношение к моим занятиям и спросила, могут ли ее мать и сестра проделать это же упражнение на следующей сессии.
Одна шестнадцатилетняя девушка, проявлявшая сильное сопротивление, в корне изменила отношение к моим занятиям и спросила, могут ли ее мать и сестра проделать это же упражнение на следующей сессии.
Контакт
Проблему контакта я уже затрагивала в предыдущей главе. Для успешной работы ребенок и терапевт должны быть в контакте, то есть не отвлекаться ни на что иное. Контакт не тождественен взаимоотношениям. У меня могут сложиться отношения с ребенком, которому трудно поддерживать любой контакт, или же контакт во время сессии то появляется, то снова исчезает. Если ребенок не способен поддерживать контакт, то это становится первостепенной задачей любой терапии. Вот пример.
Одна мать позвонила мне и рассказала, что прошлой ночью ее четырнадцатилетний сын погнался за ней с ножом и что она его очень боится. Я согласилась встретиться с ним, не зная, чего ожидать. В приемной мне навстречу поднялись женщина и мальчик, на плечах которого лежала большая живая змея. Я вздрогнула, но прежде чем мне удалось произнести какие-нибудь слова, женщина представила себя и своего сына, и мы познакомились. Мальчик широко улыбнулся и предложил мне подержать змею. Я отказалась, сказав, что не знаю, как держать змей (хотя и предполагала, что она не ядовита).
Мальчик широко улыбнулся и предложил мне подержать змею. Я отказалась, сказав, что не знаю, как держать змей (хотя и предполагала, что она не ядовита).
Юноша заявил, что это несложно, и сунул пресмыкающееся мне в руки. Он заверил меня, что эта змея очень дружелюбна и любит, когда ее гладят по голове, что я и сделала, пытаясь быть как можно осторожнее. Парень был доволен и даже сделал комплемент моим способностям обращаться со змеями (внутри меня все дрожало, и мне стоило немало усилий сохранять видимость спокойствия). Я была потрясена тем, как Джон установил со мной контакт. В процессе наших совместных занятий я поняла, что он может поддерживать контакт, только когда в нем участвуют его змеи. (Впоследствии он приносил на сессии много разных змей.)
Он не хотел разговаривать ни о чем, кроме этих животных. Вопрос «Как дела?» оставался без ответа. Ему было неинтересно рисовать, работать с глиной, играть или заниматься еще чем-нибудь в моем кабинете. Поэтому б?льшую часть времени мы посвящали змеям. Однажды мы лежали на полу, устраивая состязания змей, и я заговорила со змеей Джона: «Привет, змея, не хочешь ли сразиться с моей змейкой?» Мальчик ответил за свое животное. Именно таким образом Джону удалось выразить множество мыслей, идей и особенно чувств. Через несколько месяцев он смог, наконец, положить змею, которую повсюду носил с собой, в ведро с песком и попробовать заняться другим экспрессивным упражнением. За полтора года занятий он больше ни разу не угрожал ножом своей матери.
Однажды мы лежали на полу, устраивая состязания змей, и я заговорила со змеей Джона: «Привет, змея, не хочешь ли сразиться с моей змейкой?» Мальчик ответил за свое животное. Именно таким образом Джону удалось выразить множество мыслей, идей и особенно чувств. Через несколько месяцев он смог, наконец, положить змею, которую повсюду носил с собой, в ведро с песком и попробовать заняться другим экспрессивным упражнением. За полтора года занятий он больше ни разу не угрожал ножом своей матери.
Вот еще примеры установления контакта:
Одна семья обратилась ко мне по поводу шестнадцатилетней девочки, демонстрировавшей сильное сопротивление. Во время сессии она то и дело вставляла недружелюбные комментарии и не желала общаться ни со мной, ни с кем-либо другим. Большую часть времени девушка просто сидела, уставившись в пол. Ее отец рассказал, что дочь предупредила их, что вообще не будет разговаривать, однако она все-таки иногда раскрывала рот – исключительно для того, чтобы произнести что-нибудь язвительное. Ее враждебные замечания были весьма точными, поэтому я сказала, что семья не нуждается в моих услугах, пусть просто прислушаются к словам их дочери, ведь она так чутко оценивает динамику семейной системы. Родители затихли в изумлении, но контакт между мной и девочкой немедленно установился. Между прочим, мои комментарии были абсолютно искренними.
Ее враждебные замечания были весьма точными, поэтому я сказала, что семья не нуждается в моих услугах, пусть просто прислушаются к словам их дочери, ведь она так чутко оценивает динамику семейной системы. Родители затихли в изумлении, но контакт между мной и девочкой немедленно установился. Между прочим, мои комментарии были абсолютно искренними.
Другая женщина в отчаянии привела в мой кабинет дочь. Девочка попала в секту Свидетелей Иеговы и была одержима идеей втянуть туда же и мать. Она была агрессивно настроена и всячески демонстрировала, что пришла ко мне против воли. Я попросила мать подождать в соседней комнате, а девочку – рассказать о своей вере. Объяснив, что я еврейка и не собираюсь присоединяться к их секте, я сказала, что не имею представления об их организации и хотела бы пополнить свои знания. Девочка согласилась и начала длинное повествование о том, как она попала к этим людям и что от них узнала. Мне пришлось задать множество вопросов о ее группе, на которые она с готовностью отвечала, хотя понимала, что многого еще не знает. Девушка говорила о необходимости посещать группу и о пользе, которую приносят их занятия. Больше всего ее волновала загробная жизнь матери, но мать не желала ее слушать. Между нами установилась отличная связь, и это в очередной раз укрепило мою убежденность, что полноценный контакт между терапевтом и клиентом возможен только на основе честности, гармонии и уважения, а главное, что начинаться он должен с области интересов клиента. Что случилось потом? Мать научилась слушать и принимать дочь, а через несколько месяцев девушка по собственной воле покинула секту.
Девушка говорила о необходимости посещать группу и о пользе, которую приносят их занятия. Больше всего ее волновала загробная жизнь матери, но мать не желала ее слушать. Между нами установилась отличная связь, и это в очередной раз укрепило мою убежденность, что полноценный контакт между терапевтом и клиентом возможен только на основе честности, гармонии и уважения, а главное, что начинаться он должен с области интересов клиента. Что случилось потом? Мать научилась слушать и принимать дочь, а через несколько месяцев девушка по собственной воле покинула секту.
На наших занятиях ребенок понял себя и стал более самостоятельной личностью.
И последний пример того, как возникает контакт.
Пятнадцатилетнего мальчика направил ко мне суд в рамках программы консультирования подростков, впервые совершивших правонарушение. Джек позвонил по телефону в школу и сказал, что здание заминировано, а потом наблюдал за эвакуацией. Не сдержав восторга, он начал рассказывать другим детям, что стал причиной всей этой суматохи.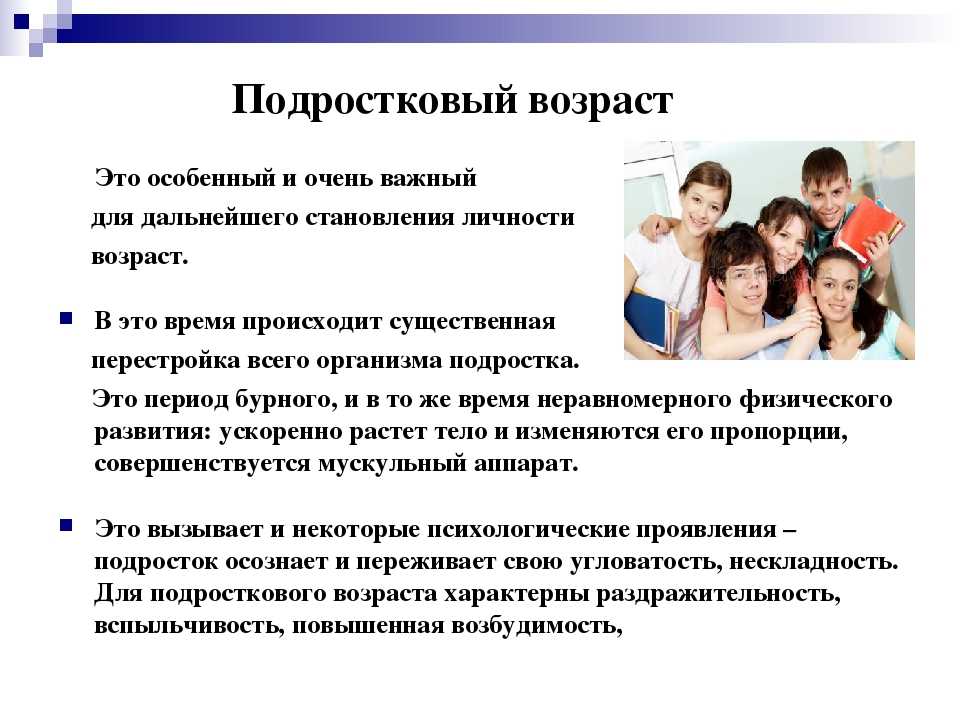 Его слова дошли до директора школы, который и вызвал полицию. Джек был очень испуган, придя в мой кабинет, и делал все, чтобы меня умаслить. Я очень некомфортно чувствовала себя на сессиях, хотя поначалу и проигнорировала свои эмоции. Однако странное ощущение оставалось, и мне пришлось серьезно задуматься над тем, что происходит. Внезапно я осознала, что на занятиях Джек не находится в контакте со мной, хотя внешне все выглядело очень достойно. На следующей сессии мы снова сели друг против друга и стали разыгрывать наш обычный ритуал: «Привет, Джек. Как дела?» – «Прекрасно». – «Чем бы тебе хотелось заняться сегодня? Или хочешь поговорить?» – «Нет. Я сделаю все, что вы скажете». На этот раз вместо обычного «Ну, тогда давай…» я замолчала, задумавшись, что делать дальше. Джек спросил: «Так что вы хотите, чтобы я сделал сегодня?» «Я не знаю, Джек, – ответила я. – Что-то не так, и я не знаю, что именно». Мальчик вдруг очень возбудился и встревожился. «Я же делаю все, о чем вы просите!» – почти прокричал он.
Его слова дошли до директора школы, который и вызвал полицию. Джек был очень испуган, придя в мой кабинет, и делал все, чтобы меня умаслить. Я очень некомфортно чувствовала себя на сессиях, хотя поначалу и проигнорировала свои эмоции. Однако странное ощущение оставалось, и мне пришлось серьезно задуматься над тем, что происходит. Внезапно я осознала, что на занятиях Джек не находится в контакте со мной, хотя внешне все выглядело очень достойно. На следующей сессии мы снова сели друг против друга и стали разыгрывать наш обычный ритуал: «Привет, Джек. Как дела?» – «Прекрасно». – «Чем бы тебе хотелось заняться сегодня? Или хочешь поговорить?» – «Нет. Я сделаю все, что вы скажете». На этот раз вместо обычного «Ну, тогда давай…» я замолчала, задумавшись, что делать дальше. Джек спросил: «Так что вы хотите, чтобы я сделал сегодня?» «Я не знаю, Джек, – ответила я. – Что-то не так, и я не знаю, что именно». Мальчик вдруг очень возбудился и встревожился. «Я же делаю все, о чем вы просите!» – почти прокричал он. «Я знаю, Джек. Ты очень старался сотрудничать. Но что-то у нас не выходит». Внезапно я нашла нужные слова: «Ты не вкладываешь в наши занятия свою душу». Джек был изумлен и расплакался: «Но я не знаю, как это сделать». – «Тогда давай попробуем что-нибудь сделать, и, возможно, у тебя получится. Или ты можешь рассказать мне, что тебе нравится в наших встречах и что ты чувствуешь. Я знаю, ты испуган и обеспокоен, хотя все время демонстрируешь, что все прекрасно. Чем бы тебе хотелось заняться?» – «Я не хочу говорить. Можно полепить из глины?» И мы начали работать. Контакт между нами получился мощным, а с помощью глины Джеку удалось выразить многие чувства. Этот опыт научил меня доверять собственным эмоциям и ощущениям. Ощущение дискомфорта с моей стороны оказалось очень важным моментом, который я попыталась проигнорировать. Оно сохранялось, пока я не обратила на него внимания.
«Я знаю, Джек. Ты очень старался сотрудничать. Но что-то у нас не выходит». Внезапно я нашла нужные слова: «Ты не вкладываешь в наши занятия свою душу». Джек был изумлен и расплакался: «Но я не знаю, как это сделать». – «Тогда давай попробуем что-нибудь сделать, и, возможно, у тебя получится. Или ты можешь рассказать мне, что тебе нравится в наших встречах и что ты чувствуешь. Я знаю, ты испуган и обеспокоен, хотя все время демонстрируешь, что все прекрасно. Чем бы тебе хотелось заняться?» – «Я не хочу говорить. Можно полепить из глины?» И мы начали работать. Контакт между нами получился мощным, а с помощью глины Джеку удалось выразить многие чувства. Этот опыт научил меня доверять собственным эмоциям и ощущениям. Ощущение дискомфорта с моей стороны оказалось очень важным моментом, который я попыталась проигнорировать. Оно сохранялось, пока я не обратила на него внимания.
Укрепление самости и выражение эмоций
Основные задачи подросткового возраста – сепарация и индивидуация. Как мы уже говорили раньше, это серьезная борьба, которая является причиной сильной напряженности в семье. Встречаясь с подростком, я знаю, что значительная часть моей работы состоит в том, чтобы помочь ему. Многие тинэйджеры с готовностью говорят о несостоятельности своих семей, сестер и братьев, друзей или школы. Они редко бывают склонны к интроспекции или самоанализу. Они испытывают потребность подолгу обсуждать интересующие их вопросы, но для углубления в суть вопроса им требуется помощь. Установка на б?льшую осознанность имеет решающее значение для обретения уверенности и для лучшего самоопределения. Чем большей внутренней силой обладает подросток, тем проще проходит индивидуация. Работа над собой, как правило, помогает научиться выражать эмоции. Известно множество проективных техник, способствующих этой работе. Вот несколько примеров.
Как мы уже говорили раньше, это серьезная борьба, которая является причиной сильной напряженности в семье. Встречаясь с подростком, я знаю, что значительная часть моей работы состоит в том, чтобы помочь ему. Многие тинэйджеры с готовностью говорят о несостоятельности своих семей, сестер и братьев, друзей или школы. Они редко бывают склонны к интроспекции или самоанализу. Они испытывают потребность подолгу обсуждать интересующие их вопросы, но для углубления в суть вопроса им требуется помощь. Установка на б?льшую осознанность имеет решающее значение для обретения уверенности и для лучшего самоопределения. Чем большей внутренней силой обладает подросток, тем проще проходит индивидуация. Работа над собой, как правило, помогает научиться выражать эмоции. Известно множество проективных техник, способствующих этой работе. Вот несколько примеров.
Рисование розового куста и другие проективные тесты
Я прошу молодого человека закрыть глаза и представить себя кустом роз или любым другим цветочным кустом, который мы будем называть розовым кустом. Я даю разные подсказки типа: «Ты высокий или низкий? Пышный или редкий? У тебя есть шипы? А цветы? Какого они цвета? У тебя есть корни? Где ты находишься? Ты ведь можешь расти везде: в океане, на луне, в саду – где угодно. Около тебя есть другие кусты, деревья, животные, птицы, забор? Кто о тебе заботится?» Потом я прошу нарисовать его розовый куст и включить в рисунок все, что ему захочется. Когда работа закончена, я прошу рассказать мне о его розовом кусте, задаю дополнительные вопросы, чтобы внести ясность, и записываю ответы. Затем я возвращаюсь к началу и зачитываю каждую реплику. «Это связано как-то с тобой? Или напоминает что-то из твоей жизни?»
Я даю разные подсказки типа: «Ты высокий или низкий? Пышный или редкий? У тебя есть шипы? А цветы? Какого они цвета? У тебя есть корни? Где ты находишься? Ты ведь можешь расти везде: в океане, на луне, в саду – где угодно. Около тебя есть другие кусты, деревья, животные, птицы, забор? Кто о тебе заботится?» Потом я прошу нарисовать его розовый куст и включить в рисунок все, что ему захочется. Когда работа закончена, я прошу рассказать мне о его розовом кусте, задаю дополнительные вопросы, чтобы внести ясность, и записываю ответы. Затем я возвращаюсь к началу и зачитываю каждую реплику. «Это связано как-то с тобой? Или напоминает что-то из твоей жизни?»
Я сделала сотни розовых кустов с детьми и поняла, что подростки особенно отзывчивы на это упражнение. Один семнадцатилетний юноша признался, что хочет умереть, как роза, упавшая на землю. (Он сказал, что пока рисовал ее, совершенно не думал, что роза может символизировать его смерть.)
Подросткам нравятся проективные тесты. Я никогда не ставлю диагнозов, не делаю однозначных выводов и всегда спрашиваю ребенка, согласен ли он с полученными результатами. Я зачитываю каждое предложение, останавливаюсь и спрашиваю: «Как тебе кажется, это правильно?» Для составления рассказов мы используем «Тематический апперцепционный тест» (Murray, 1943) с множеством старых черно-белых картинок, по которым нужно рассказывать истории. Мы просматриваем карточки, и я записываю предлагаемые мне короткие истории. Например, если на рисунке изображен ребенок, смотрящий на скрипку, рассказ может быть таким: «Он должен поиграть на скрипке, но ненавидит это занятие и мечтает этого не делать». – «Это напоминает тебе что-то из твоей жизни?» – «Конечно, есть много вещей, которые я должен, но не люблю делать». На таком ответе можно остановиться поподробнее, а можно перейти к следующей карточке.
Я зачитываю каждое предложение, останавливаюсь и спрашиваю: «Как тебе кажется, это правильно?» Для составления рассказов мы используем «Тематический апперцепционный тест» (Murray, 1943) с множеством старых черно-белых картинок, по которым нужно рассказывать истории. Мы просматриваем карточки, и я записываю предлагаемые мне короткие истории. Например, если на рисунке изображен ребенок, смотрящий на скрипку, рассказ может быть таким: «Он должен поиграть на скрипке, но ненавидит это занятие и мечтает этого не делать». – «Это напоминает тебе что-то из твоей жизни?» – «Конечно, есть много вещей, которые я должен, но не люблю делать». На таком ответе можно остановиться поподробнее, а можно перейти к следующей карточке.
Я также часто использую «Тест руки» (Wagner, 1969), подростковую версию «Перечня пережитых проблем» (Silverton, 1991) и «Цветовой теста Люшера» (Luscher, 1971).
Большой успех имеют книги астрологических прогнозов, вроде произведения Линды Гудман «Знаки солнца» (Goodman, 1971). Я зачитываю по предложению из предсказаний по дню рождения ребенка, и мы вместе анализируем правильность высказываний.
Я зачитываю по предложению из предсказаний по дню рождения ребенка, и мы вместе анализируем правильность высказываний.
Глина
Особой популярностью пользуется глина. Я установила, что подросткам очень нравятся такие упражнения:
• сделать что-то с закрытыми глазами (примеры можно посмотреть в книге «Окна в мир ребенка»),
• изобразить себя слабым или сильным,
• слепить автопортрет.
Одна молодая женщина, пережившая изнасилование, но не желавшая говорить на эту тему, неосознанно слепила свою фигурку без нижней части, только от талии и выше. Поняв это, она была настолько потрясена, что согласилась поговорить о перенесенной ею травме.
Упражнение с игрушками
Я могу попросить ребенка выбрать на полке игрушку или любой предмет в комнате, а затем поговорить от его имени. Одна тринадцатилетняя девочка предложила мне тоже взять что-нибудь в руки, а потом мы подобрали по игрушке друг для друга. Это удивительно, насколько раскрывается личность в этой проективной технике.
Как-то раз меня попросили позаниматься с группой мальчиков из клинического отделения для «неисправимых» подростков. Я принесла сумку разных игрушек, похожих на формочки для песочницы. В комнате резвились десять ребят, которые кричали друг на друга, носились и игнорировали призывы врача к тишине. Когда я высыпала игрушки в середине зала, дети немедленно сгрудились вокруг, чтобы посмотреть. Я попросила образовать круг и выбрать по одному предмету. Дети с шумом, хотя и охотно, выполнили задание. После этого я подняла свою игрушку и сказала: «Я пустой мусоровоз. Я еду по кругу, забираю у людей хлам и отвожу его на свалку. Ого! Сколько тут всего для меня. А еще люди делятся со мной своими проблемами, и мы ищем способы их преодолеть». Пока я говорила, дети уважительно молчали. Потом я спросила, кто хочет начать игру первым. Вперед выдвинулся мальчик, выбравший змею: «Я змея. Люди меня боятся. Я не хочу их обижать, но они не верят, кричат и убегают». Когда я спросила, не относится ли часть его рассказа к нему самому, ответ был отрицательным. Но другие ребята закричали: «Да, это правда! Ты пугаешь людей, потому что большой и темнокожий!» – «Но я же никогда никого не обижал!» – ответил мальчик, с чем полностью согласились его приятели. После этого ребята говорили по очереди, в открытой и дружелюбной атмосфере. Терапевт признался мне, что никогда не пытался заниматься с этой группой, потому что считал, что они не станут работать. Он был удивлен и пообещал детям делать с ними как можно больше подобных упражнений.
Но другие ребята закричали: «Да, это правда! Ты пугаешь людей, потому что большой и темнокожий!» – «Но я же никогда никого не обижал!» – ответил мальчик, с чем полностью согласились его приятели. После этого ребята говорили по очереди, в открытой и дружелюбной атмосфере. Терапевт признался мне, что никогда не пытался заниматься с этой группой, потому что считал, что они не станут работать. Он был удивлен и пообещал детям делать с ними как можно больше подобных упражнений.
Этот случай напоминает мне еще об одном эпизоде, правда, без использования игрушек, приключившемся со мной в другой клинике для психически нездоровых детей. Меня попросили встретиться с группой подростков, мальчиков и девочек, чтобы дать их терапевту несколько рекомендаций. Группа была очень большой, около двадцати человек. Я раздала бумагу и мелки и попросила детей нарисовать самих себя сначала слабыми, а потом сильными, используя разные цвета, линии и формы. Около половины подростков отказались участвовать в упражнении и ушли. Остальные добросовестно выполнили задание, а в конце я попросила одного из добровольцев побеседовать со мной о своей картине. Ко мне подсела шестнадцатилетняя Джилл и описала разные детали своего произведения, изображающие ее слабой или сильной. Мы немного поговорили, а потом я предложила ребятам разбиться на пары и обсудить друг с другом свои рисунки. В процессе выполнения задания молодые люди, покинувшие нашу встречу, стали возвращаться обратно и прислушиваться к разговорам. Когда я уезжала, некоторые ребята спрашивали, приеду ли я снова, так как раньше они не выполняли таких заданий и хотели бы порисовать еще.
Остальные добросовестно выполнили задание, а в конце я попросила одного из добровольцев побеседовать со мной о своей картине. Ко мне подсела шестнадцатилетняя Джилл и описала разные детали своего произведения, изображающие ее слабой или сильной. Мы немного поговорили, а потом я предложила ребятам разбиться на пары и обсудить друг с другом свои рисунки. В процессе выполнения задания молодые люди, покинувшие нашу встречу, стали возвращаться обратно и прислушиваться к разговорам. Когда я уезжала, некоторые ребята спрашивали, приеду ли я снова, так как раньше они не выполняли таких заданий и хотели бы порисовать еще.
Куклы
Подросткам нравятся куклы. Ведь эти игрушки нужны не только маленьким детям. Проблема заключается в том, что молодые люди стесняются показывать свой интерес к куклам, а если играют – то тайком, хотя из этого правила могут быть и исключения. Один пятнадцатилетний мальчик пришел ко мне на сессию и заметил на кофейном столе куклу-перчатку в виде черепахи. Он схватил ее и держал, пока мы беседовали о его жизни. Внезапно я взяла другую куклу из корзины с игрушками и заговорила с его черепахой.
Он схватил ее и держал, пока мы беседовали о его жизни. Внезапно я взяла другую куклу из корзины с игрушками и заговорила с его черепахой.
– Эй, черепаха, что это у тебя на спине?
– Это мой дом.
– Почему ты носишь его на спине?
– Когда я устаю, я в него прячусь. А еще я могу в него залезть, если испугаюсь, и никто меня не увидит. (Пауза.) И я могу ударить кого-нибудь, если надо (слегка толкает меня рукой, на которую надета черепаха).
Таким образом мы общались в течение некоторого времени. Каждый раз, приходя ко мне в кабинет, мальчик разыскивал свою игрушку со словами: «Где там моя черепаха?» – и надевал ее на руку. В роли черепахи он был более словоохотлив и приветлив.
Подросткам нравится ставить кукольные спектакли, особенно в группах. Группа делится на пары, и каждая пара выбирает карточку, на которой мною заранее написаны темы. Темы выбираются из числа проблем, которые наиболее значимы для подростков: внешность, давление со стороны сверстников, одиночество, чувство отверженности и заброшенности, ощущение собственного отличия от других и так далее. Я прошу ребят изображать черты их героев гипертрофированно, что всегда весело и вызывает смех.
Я прошу ребят изображать черты их героев гипертрофированно, что всегда весело и вызывает смех.
Видео
Однажды я принесла в кабинет видеокамеру, чтобы иметь возможность записывать некоторые сессии. Но дети сразу придумали, как еще ее можно использовать, и камера превратилась в очень важный терапевтический инструмент. Подросткам очень нравится создавать разные сценарии.
Отец привел ко мне Чарли после того, как его поймали на воровстве в доме соседей. У этого пятнадцатилетнего мальчика было тяжелое детство: шесть месяцев он находился в приюте, пока мать решала, хочет ли она его оставить (отец ребенка был неизвестен). Потом его усыновила супружеская чета в надежде, что ребенок поможет сохранить их брак (этого не случилось). Приемный отец переехал в другой штат и женился второй раз, а приемной матери было все труднее контролировать его поведение. Мальчика отправили к приемному отцу, но его новой жене не нравилось, что ребенок поселился в их доме. Во время совместной сессии с родителями Чарли выглядел отстраненным и очень тихим. Когда мы встретились наедине, мальчик оказался более энергичным и согласился нарисовать дом, дерево и человека, но не изъявил желания разговаривать. Все переменилось, когда я принесла видеокамеру. Ребенок ожил. Первым написанным и поставленным им сценарием была терапевтическая сессия, в которой в роли терапевта выступал он сам, а в роли Чарли была я. Камера стояла на штативе. В роли больного я была замкнута и сердита, а он, будучи врачом, давал мне наставления. Мы с веселым смехом просмотрели получившуюся сценку на мониторе. Я поинтересовалась у Чарли, хочет ли он получать от меня наставления на сессиях.
Когда мы встретились наедине, мальчик оказался более энергичным и согласился нарисовать дом, дерево и человека, но не изъявил желания разговаривать. Все переменилось, когда я принесла видеокамеру. Ребенок ожил. Первым написанным и поставленным им сценарием была терапевтическая сессия, в которой в роли терапевта выступал он сам, а в роли Чарли была я. Камера стояла на штативе. В роли больного я была замкнута и сердита, а он, будучи врачом, давал мне наставления. Мы с веселым смехом просмотрели получившуюся сценку на мониторе. Я поинтересовалась у Чарли, хочет ли он получать от меня наставления на сессиях.
Мальчик признался, что совершал плохие поступки, но не знает, как ему исправить ситуацию. Я объяснила, что он ведет себя, как ребенок, потому что он и есть ребенок, отчаянно пытающийся добиться любви, внимания и удовлетворения своих потребностей. После рассказа о том, как я буду действовать, чтобы помочь ему чувствовать себя в жизни лучше и увереннее, Чарли стал с нетерпением ждать начала работы. Занятия с этим мальчиком оказались в числе самых продуктивных в моей практике. (Среди всех проективных приемов, которые я использовала с Чарли, видеокамера осталась самой любимой.)
Занятия с этим мальчиком оказались в числе самых продуктивных в моей практике. (Среди всех проективных приемов, которые я использовала с Чарли, видеокамера осталась самой любимой.)
Другая моя клиентка, тринадцатилетняя девочка, тоже отозвалась на камеру сильнее, чем на любые другие инструменты. Я выписала на карточку вопросы и сказала, что у нас будет «токшоу», в котором я буду ведущей, а она – гостем студии. Под смех девочки я представила ее аудитории и, сверяясь с карточкой, начала задавать вопросы. Моя клиентка отвечала очень активно и вдумчиво. Диалог начинался очень просто: «Сколько тебе лет? В каком ты классе? – а потом, по мере того как я перебирала карточки, становился все глубже, включая в себя такие вопросы: – Можешь ли ты сказать несколько слов о том, как повлиял на тебя развод твоих родителей?» Мы просмотрели наше «шоу» на экране и снова хохотали так громко, что едва могли слышать собственные речи.
Песочница
Однажды мне позвонил молодой человек, который в пятнадцатилетнем возрасте был моим клиентом. У него были трудности с девушкой, и ему казалось, что я смогу им помочь. Войдя в мой кабинет, парень немедленно подошел к песочнице, объяснил своей девушке, как в ней работать, и описал несколько собственных песочных сцен. Я была ошеломлена! Этот мальчик, которому теперь был двадцать один год, запомнился мне как трудный случай. Он всегда проявлял сильнейшее сопротивление, на наших занятиях практически ничего не происходило, он почти не говорил. В это время он повернулся ко мне со словами: «Мне очень нравилось делать сценки на песке. Вы так мне помогли!»
У него были трудности с девушкой, и ему казалось, что я смогу им помочь. Войдя в мой кабинет, парень немедленно подошел к песочнице, объяснил своей девушке, как в ней работать, и описал несколько собственных песочных сцен. Я была ошеломлена! Этот мальчик, которому теперь был двадцать один год, запомнился мне как трудный случай. Он всегда проявлял сильнейшее сопротивление, на наших занятиях практически ничего не происходило, он почти не говорил. В это время он повернулся ко мне со словами: «Мне очень нравилось делать сценки на песке. Вы так мне помогли!»
Я узнала, что подростки, как младшие, так и старшие, действительно любят возиться с песком. Их воодушевляют миниатюры. Если попросить подростка сделать произвольную сценку, девочки часто изображают идиллическое, мирное местечко, а мальчики используют машинки, мотоциклы или монстров. Через некоторое время я начинаю давать более конкретные указания: сделать безопасное место на одном подносе и уголок, полный угроз, – в другом; изобразить сцену развода родителей; показать свои чувства в разных ситуациях и так далее.
Получив от меня задание изобразить развод своих родителей, пятнадцатилетний Эрик быстро приступил к работе. Он поместил фигурки мужчины и женщины в разные углы подноса и выложил стеклянными шариками некое подобие пути, начинавшегося с больших шариков и продолжавшегося шариками поменьше. Сбоку мальчик поставил фигурки, изображающие больницу: один человечек лежал на койке, а другой был на костылях. Наготове стояла машина скорой помощи. Эрик сказал: «Эти фигурки – мои мама и папа. Большие шары – наши трудности, но теперь они почти разрешились, поэтому я взял шарики поменьше. Больной в кровати – это я, потому что все эти проблемы даются мне очень тяжело. Но я уже встаю на костыли, потому что выздоравливаю, хотя еще и не совсем здоров. Скорая помощь привезла меня в больницу и готова помочь любому, кому понадобится».
Прелесть подобной работы заключается в удовольствии, которое она приносит. Кроме того, это прекрасная возможность показать собственную боль. Эрику тоже удалось выразить чувства, неподвластные словам.
Исследование противоречий
Подростков одолевают противоречия. В глубине души они испытывают одни чувства, а окружающим показывают другие. Молодой человек хочет быть независимым, но боится потерять столь необходимую ему поддержку родителей. Он испытывает смешанные чувства в отношении многих вещей и не может составить собственного мнения.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
особенности работы с детьми и подростками онлайн //Психологическая газета
Психологические консультации в онлайн-режиме стали фактором стресса для многих детей и подростков. О том, как объяснить юным клиентам, что происходит, как помочь им выстроить личные границы и какими играми заинтересовать в новом формате, рассказала Татьяна Ушакова на мастер-классе «Возможности и особенности психологической работы с детьми и подростками в онлайн-режиме, или просто – “Давайте поиграем!”».
Татьяна Олеговна Ушакова – кандидат педагогических наук, заведующая отделением помощи семьи и детям «Сергиево-Посадского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних», преподаватель Института практической психологии «Иматон», автор колод метафорических карт – «Роботы», «Кнуты и пряники» и «Огонь, мерцающий в сосуде». Татьяна Олеговна делилась опытом перевода консультаций в онлайн-формат в материале «Групповые формы психологической работы с детьми и подростками онлайн».
«Формат нашего контакта с детьми с переходом в онлайн сильно изменился. Наш контакт осложнен, потому что мы видим ребенка частично, ребенок тоже видит нас не целиком. Ребенок не едет к нам, он находится в привычной домашней обстановке, но при этом не успевает настроится на встречу. Если для подростков это комфортная ситуация, то для детей это абсолютно новый опыт, который может вызывать много разных чувств.
Ключевой вопрос психологической работы в онлайн-формате – вопрос безопасности и границ. Этот вопрос, в первую очередь, касается детей и подростков. Взрослый клиент может взять на себя ответственность за создание обстановки безопасности и соблюдения личных границ, а для ребенка это очень сложно. Когда мы работали в офлайн, эта ответственность лежала на нас, психологах, в онлайн-формате мы, конечно, можем влиять на вопрос безопасности, но не можем взять за это на себя полную ответственность. Хорошо, если у нас есть альянс с родителями, которые понимают про безопасность и границы, но это скорее фантазия, чем реальность: мне бывает сложно договориться даже о том, чтоб другие дети не вбегали в комнату.
Этот вопрос, в первую очередь, касается детей и подростков. Взрослый клиент может взять на себя ответственность за создание обстановки безопасности и соблюдения личных границ, а для ребенка это очень сложно. Когда мы работали в офлайн, эта ответственность лежала на нас, психологах, в онлайн-формате мы, конечно, можем влиять на вопрос безопасности, но не можем взять за это на себя полную ответственность. Хорошо, если у нас есть альянс с родителями, которые понимают про безопасность и границы, но это скорее фантазия, чем реальность: мне бывает сложно договориться даже о том, чтоб другие дети не вбегали в комнату.
Обучение
Татьяна Олеговна Ушакова
Авторская программа
Метафорические карты. Авторская методика психотерапевтической работы
Участвовать
Раньше было бы нарушением этики задать вопрос: «А где ты? Закрыта ли у тебя дверь? Есть ли у тебя наушники?», теперь я могу предложить подростку, если он выходит на связь с помощью ноутбука, включить музыку на телефоне и положить его под дверь, чтобы чувствовать себя надежнее. Если подросток говорит, что наушников у него нет, в онлайн он выходит с телефона, а мама постоянно заглядывает в комнату, то я предлагаю поиграть, порисовать.
Если подросток говорит, что наушников у него нет, в онлайн он выходит с телефона, а мама постоянно заглядывает в комнату, то я предлагаю поиграть, порисовать.
Основная сложность психологической работы в онлайн-формате – контакт. Я столкнулась с тем, что онлайн мы начали устанавливать контакт заново с детьми, с которыми у меня был хороший контакт в офлайн.
Самый главный вопрос, который мне задают дети и подростки: «Почему так?». Есть дети, которые обижаются, говорят: «Я не буду с тобой так разговаривать, я так не хочу!». Маленькие дети, с которыми мы привыкли к телесному контакту, спрашивают: «А как я тебя теперь буду обнимать? Я хочу тебя потрогать!».
Когда у меня спрашивают: «Почему так?», в зависимости от возраста я даю максимально правдивый ответ, говорю: «Мне очень хочется с тобой встретиться очно. И мы с тобой сейчас встречаемся вот так, потому что другой возможности нет, нам запрещено пока встречаться. Я грущу по этому поводу. И мы с тобой пока пообщаемся так. Не получится, как мы привыкли, – попробуем по-другому. Мы общаемся с тобой таким образом для того, чтобы, когда нам объявят, что можно выходить и встречаться друг с другом, нам было, что вспомнить».
И мы с тобой пока пообщаемся так. Не получится, как мы привыкли, – попробуем по-другому. Мы общаемся с тобой таким образом для того, чтобы, когда нам объявят, что можно выходить и встречаться друг с другом, нам было, что вспомнить».
Оптимистичная нота, что мы сохраняем отношения, несмотря на карантин, несмотря на то, что мы не можем увидеть друг друга целиком, бывает важна детям.
Нужно быть готовым, что дети могут обидеться: «Ты просто не хочешь меня видеть!». В этом нет ничего удивительного: стремление найти фигуру, которая виновата в происходящем, свойственно не только детям. Американский психоаналитик Нэнси Мак-Вильямс в начале пандемии писала, что стремление найти всемогущего другого, который бы взял на себя ответственность за происходящее, свойственно инфантильной части взрослых и детям.
Нэнси Мак-Вильямс говорит о том, что онлайн-формат делает наш контакт более диалогичным. Сейчас у нас есть возможность видеть клиента в его доме. Обычно мы предлагаем игрушки, теперь ребенок может показать нам свои игрушки, питомца. Это может сделать наш контакт более человечным и теплым. Хотя я понимаю, что, когда мы вернемся в офлайн-режим, перед нами снова будет стоять вопрос выстраивания границ и безопасности, и делать это придется каким-то другим способом, потому что эти границы стали более проницаемыми и безопасность стала менее устойчивой.
Обычно мы предлагаем игрушки, теперь ребенок может показать нам свои игрушки, питомца. Это может сделать наш контакт более человечным и теплым. Хотя я понимаю, что, когда мы вернемся в офлайн-режим, перед нами снова будет стоять вопрос выстраивания границ и безопасности, и делать это придется каким-то другим способом, потому что эти границы стали более проницаемыми и безопасность стала менее устойчивой.
Обучение
Татьяна Олеговна Ушакова
Авторская программа
Авторская методика психотерапевтической работы с применением игровых платформ и метафорических карт
Участвовать
Первое занятие – это всегда ответ на вопрос: «Почему занятия теперь такие?». Тему вируса, карантина, изоляции очень важно обсуждать с детьми. Я наблюдаю, что в отношении коронавируса ситуация очень похожа с тем, что происходит с темой смерти: родители стараются ничего не рассказывать детям, чтобы они не испугались.
При объяснении ситуации я опиралась на работу Мануэлы Молиной «Привет! Меня зовут Коронавирус». Там не запугивающим, не демонизирующим языком рассказывается история про коронавирус для детей. Обсуждение этой небольшой книги – это хорошее начало как индивидуальной, так и групповой работы с дошкольниками и младшими школьниками.
Там не запугивающим, не демонизирующим языком рассказывается история про коронавирус для детей. Обсуждение этой небольшой книги – это хорошее начало как индивидуальной, так и групповой работы с дошкольниками и младшими школьниками.
Ничто так не травмирует детей как ситуация неясности. Для детей нужна ясность, и это важно объяснять родителям. Перед первой встречей у детей-дошкольников я записывала ролик для родителей, я говорила, что на этом занятии мы будем разговаривать о коронавирусе, объясняла, что неизвестность вызывает страх, предлагала познакомиться с работой Мануэлы Молиной и просила побыть рядом с ребенком.
Дети всегда нуждаются в игре, и в онлайн можно играть. Очень рекомендую статью Виолетты Витальевны Лифорт «Игровая терапия онлайн», этот материал меня сильно поддержал, там есть удивительные находки…
У меня есть красная коробочка, в которой лежит моя любимая игрушка, и я могу загадать ребенку про нее загадку.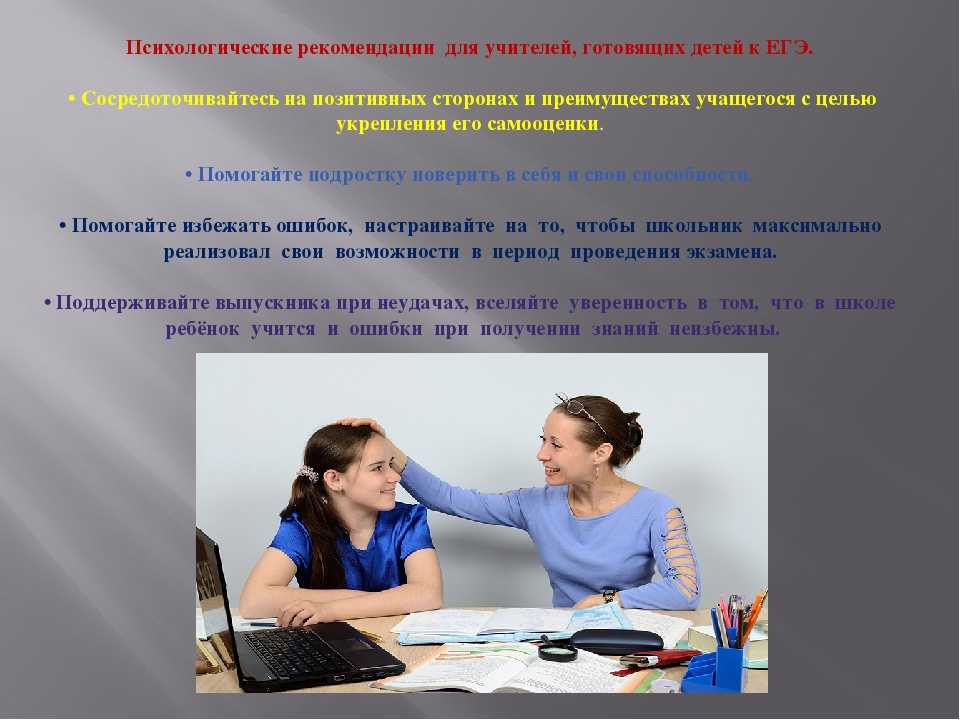 Потом я прошу его найти свою любимую игрушку и тоже про нее загадать загадку. В группе я предлагаю нашим игрушкам поговорить, например, моя лягушка спрашивает: «Собачка, как тебя зовут? Кто твой хозяин? Кто еще с тобой живет?». Иногда я прошу принести игрушку, которую дети не очень любят, которую подарила мама, которую ребенок сам выбрал. Мы можем начинать занятие с такого ритуала – мы знакомимся с игрушками друг друга…».
Потом я прошу его найти свою любимую игрушку и тоже про нее загадать загадку. В группе я предлагаю нашим игрушкам поговорить, например, моя лягушка спрашивает: «Собачка, как тебя зовут? Кто твой хозяин? Кто еще с тобой живет?». Иногда я прошу принести игрушку, которую дети не очень любят, которую подарила мама, которую ребенок сам выбрал. Мы можем начинать занятие с такого ритуала – мы знакомимся с игрушками друг друга…».
Зачем подростку родитель? Психологическая работа с родителями в период становления подростка
Кандидат психол. наук, доцент кафедры практической психологии НПУ им. М. П. Драгоманова, юнгианский аналитик, песочный психотерапевт, индивидуальный член Международной ассоциации аналитической психологии (IAAP), президент ПАДАП
Инна Кирилюк
Я продолжаю тему подростков. Расскажу, кто я и чем занимаюсь. Прежде всего я юнгианский аналитик и аналитический психолог, 20 лет своей практики работаю с детьми и подростками, и конечно же с их родителями. Тему этой встречи мы назвали «Зачем подростку родитель, или психологическая работа с родителями в период становления подростка».
Расскажу, кто я и чем занимаюсь. Прежде всего я юнгианский аналитик и аналитический психолог, 20 лет своей практики работаю с детьми и подростками, и конечно же с их родителями. Тему этой встречи мы назвали «Зачем подростку родитель, или психологическая работа с родителями в период становления подростка».
Нам показалось, что для подростка действительно звучит вопрос ЗАЧЕМ мне родитель. Он постоянно конечно так не озвучивает, но внутри сталкивается с этим внутренним вопросом. Наш ответ, как психологов – конечно, подросткам нужен родитель. Он просто очень-очень нуждается в поддержке родителей, прежде всего, в поддержке собственной семьи.
Тоже хотела бы упомянуть, как мы пришли к этой идее. За 20 лет, правда, накопилось очень много опыта и внутренних экспериментов, которые в разной мере были реализованы. Мы приходим к тому, что опыта много, а количество семей, которым мы можем помочь, все равно остается ограниченным количеством часов приема. Возникла идея онлайн-школы, онлайн-проекта, который бы помог родителям пройти разные возрастные этапы взросления детей.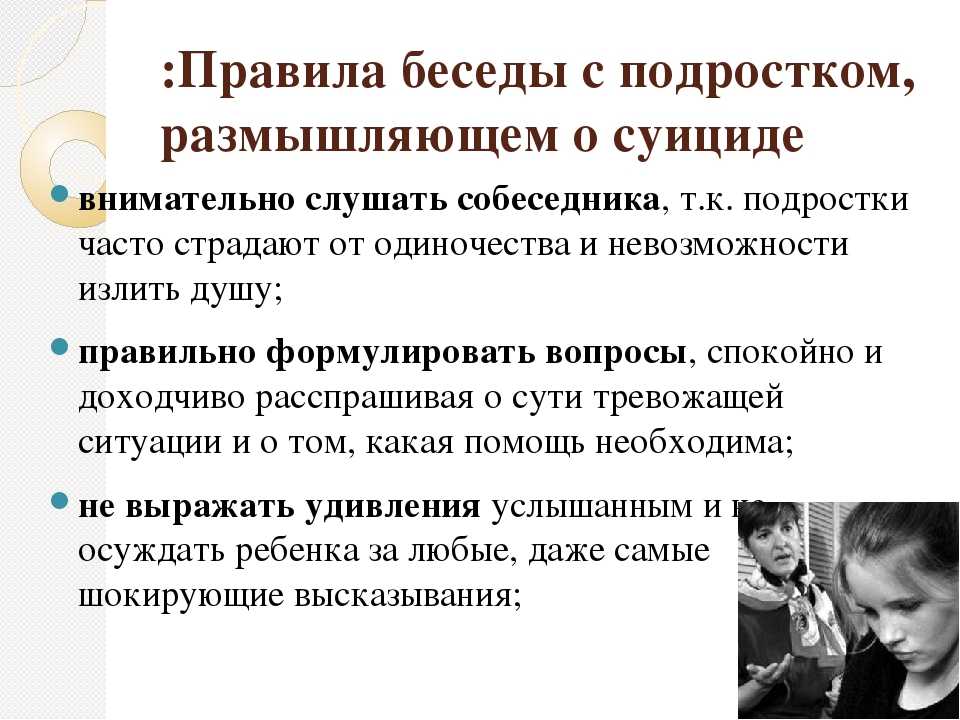 Особенный акцент мы поставили на подростков. Мы решили, что если справимся с подростками и их родителями, если удастся осуществить этот контакт, то нам будет намного легче и в других возрастах.
Особенный акцент мы поставили на подростков. Мы решили, что если справимся с подростками и их родителями, если удастся осуществить этот контакт, то нам будет намного легче и в других возрастах.
Такая идея онлайн дает очень широкие возможности, потому что действительно родители могут очень быстро и качественно получать помощь и поддержку. Мы предлагаем в проекте сопровождение, потому что можно дать некоторый совет, но по нашим наблюдениям важно родителя или семью сопроводить через мост от детства к взрослости.
Итак, основные вопросы, которые мы поставили перед собой, когда создавали этот проект.
Первый вопрос:
ЧЕГО ЖЕ НЕ ХВАТАЕТ ПСИХОЛОГАМ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ПОМОЩИ В РАБОТЕ С ПОДРОСТКОМ?
По нашим наблюдениям очень многие психологи, особенно начинающие, достаточно быстро входят в контакт с подростками. Есть и альянс, и ощущение близости, доверия. Это получается. Но на интервизионных группах, на супервизиях мы слышим от родителей, что есть желание отстраниться, сохранять дистанцию, чтобы они вообще не вмешивались в процесс. Это те люди, которые как будто что-то разрушают – они появятся, и что-то разрушится.
Это те люди, которые как будто что-то разрушают – они появятся, и что-то разрушится.
Также очень много страха перед родителем, который, как и подросток, внутри протестует, но часто внутри и боится. Поэтому вопрос, как выстроить работу с родителями, всегда задается психологами. В нашей работе он важен, чтобы сделать работу с подростком эффективной. Часто подросток разделяет общение с психологом – это позитивный родитель, какая-то поддерживающая среда. Дом, семья, родители – в это негативные эмоции вкладываются, расщепление происходит. Это не есть цель помощи, потому что подросток прежде всего должен почувствовать крепкую стену сзади: если спина прикрыта, я могу идти в мир, мне не страшно, я могу взаимодействовать с миром, потому что тылы мои закрыты. Они в надежности.
Следующий наш вопрос:
КАК РАБОТАТЬ С РОДИТЕЛЯМИ ПОДРОСТКОВ, НЕ НАРУШАЯ ГЛАВНУЮ ИНТЕНЦИЮ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА – СВОБОДУ И ОТДЕЛЕНИЕ ОТ РОДИТЕЛЕЙ.
Что же происходит? Подросток приходит в кабинет. Он доверяет психологу, он чувствует, что это его место, место его самопознания, что его интересы и потребности здесь главные. Через какое-то время родитель приходит на родительскую встречу, потому что все равно он обеспечивает эту работу. У него естественным образом много своих тревог и вопросов. И у подростка зарождается вопрос – что же происходит без меня, о чем они говорят? Они же будут говорить обо мне.
Он доверяет психологу, он чувствует, что это его место, место его самопознания, что его интересы и потребности здесь главные. Через какое-то время родитель приходит на родительскую встречу, потому что все равно он обеспечивает эту работу. У него естественным образом много своих тревог и вопросов. И у подростка зарождается вопрос – что же происходит без меня, о чем они говорят? Они же будут говорить обо мне.
Это всегда очень пугает психологов, потому что есть ощущение, что они нарушают эту конфиденциальность, не могут сохранить пространство внутри своего кабинета и своей психики для подростка, как будто родителю нужно что-то рассказать. Это тоже вопрос – как работать с родителем, при этом уважая границы подростка.
ЧТО ЖЕ ПРОИСХОДИТ С РОДИТЕЛЯМИ В ЭТОТ ПЕРИОД ВЗРОСЛЕНИЯ ИХ ДЕТЕЙ, В ПЕРИОД ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА?
Два следующих вопроса касаются чувств родителя, потому что если мы знаем, что подростковый возраст – это очень хрупкий возраст. Есть очень красивое описание, которое мне нравится, что как у малыша в первый год развития хрупкие косточки, хрупкая кожа, руки матери должны быть бережны, то можно также эту метафору перенести на психику подростка. Она такая же хрупкая, как у младенца, и родители это чувствуют, потому что они очень любят своих детей, связаны с ними. Они чувствуют эту хрупкость, но, возможно, их проявления другие.
Она такая же хрупкая, как у младенца, и родители это чувствуют, потому что они очень любят своих детей, связаны с ними. Они чувствуют эту хрупкость, но, возможно, их проявления другие.
Прежде всего мы наблюдаем, что возраст подростка совпадает с некоторым кризисом середины жизни родителей. Это возраст к 40, и в это время сам родитель может переживать достаточно сильные собственные кризисы – не только может, он и должен переживать, должен задавать вопросы: что получилось, как я живу, что меня устраивает. Возможно, приходит некоторое осознание, что семейная жизнь не такова, как планировалась. Часто этот период совпадает с разводами в семьях, с болезнями родителей. То есть родители сами в достаточно серьезных кризисных состояниях могут находиться, когда подростку особенно нужна их защита и внутренняя надежность.
КАКИЕ НАДЕЖДЫ И ОПАСЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ?
Мы подумали, какие же формы помощи мы можем предложить. Одна из идей – все-таки отдельно сопровождать, образовывать и поддерживать родителей. Для этого мы предлагаем группы для родителей. Но цель прежде всего – это работа с родителями для того, чтобы помочь подростку пройти этот период взросления, потому что когда родитель сконтейнирован, достаточно знает о возрасте, может объяснить некоторые скрытые поведения подростка, понять их хотя бы для себя, то это во многом разгружает эмоциональный мир подростка. Он может не беспокоиться о родителе, а может двигаться спокойно в своем развитии.
Одна из идей – все-таки отдельно сопровождать, образовывать и поддерживать родителей. Для этого мы предлагаем группы для родителей. Но цель прежде всего – это работа с родителями для того, чтобы помочь подростку пройти этот период взросления, потому что когда родитель сконтейнирован, достаточно знает о возрасте, может объяснить некоторые скрытые поведения подростка, понять их хотя бы для себя, то это во многом разгружает эмоциональный мир подростка. Он может не беспокоиться о родителе, а может двигаться спокойно в своем развитии.
Так получилось, что мы все – тоже мамы подростков. У меня сын-подросток, как и у моих коллег Вероники Петровой, Елизаветы Молостовой. Мы – мамы подростков, решили спросить у своих мальчишек некоторые вопросы:
1. Что делают родители для твоего воспитания, что не приносит никакого результата?
2. Как родители могли бы улучшить отношения с подростком? Что делать, чтобы добиться того, чего они требуют?
3. Когда ты станешь родителем, чего ты никогда не будешь делать со своими подростками?
Обязательно зайдите на наш сайт и только одно видео посмотрите, потому что оно должно быть обязательно в арсенале каждого психолога, который работает с подростками. Они говорят очень нежно о своих родителях, с большим пониманием. Удивительно, что то, что хотят подростки, и то, что желают родители, во много совпадает. Они хотят прежде всего общения, некоторого уважения, они не допускают нарушения границ. Очень интересно.
Они говорят очень нежно о своих родителях, с большим пониманием. Удивительно, что то, что хотят подростки, и то, что желают родители, во много совпадает. Они хотят прежде всего общения, некоторого уважения, они не допускают нарушения границ. Очень интересно.
Главное открытие, которое мы получили в процессе этого видео – это реакция родителей. Очень было интересно, когда родители слушали, как и что говорят их подростки. Главное открытие – это реакция родителей на это видео. Они говорят: «Наши дети уже взрослые. У них есть сформированное мнение о нас, о родителях. Это правда. Дети уже делают некоторые собственные самостоятельные выводы. Они смотрят на нас, как взрослые люди. Они могут видеть как достоинства, так и недостатки, в какой-то мере многое нам прощают, и они нуждаются в нас».
Такие основные комментарии мы получали от родителей. Удивительно, но сколько бы мы не рассказывали – мы грамотно можем рассказывать о подростках – но один раз увидев видео, родители настраиваются на некоторый эмпатический канал чувствовать своих детей.
У нас тоже есть вопрос. Возможно, люди с той стороны экрана, пока я буду рассказывать, прислушаются. Это могут быть психологи или просто родители подростков. Ваше собственное чувство к родителям подростков – они помогают, мешают, как вы чувствуете? Они вызывают страх и ужас, или, наоборот, другие какие-то чувства? Просто вы можете записать эти чувства, они могут нам понадобиться для работы.
ЧТО НУЖНО ПОДРОСТКАМ
Идем дальше. Всем нам, психологам, известны потребности подростков. Мы очень часто и много о них говорим – что нужно подросткам.
Подростки хотят в этом возрасте:
- Выстроить свои границы.
- Занять место в коллективе и не потерять себя.
- Стать не только ребенком для родителя.
- Научиться влиять самостоятельно на собственную жизнь, потому что родительское влияние и ощущение этого влияния должны в какой-то мере стать меньше, а «Я формирую свою жизнь» должно стать больше.
 Это должно произойти именно в подростковом возрасте, потому что потом вернуть собственную самостоятельность достаточно сложно. Как глубинный психолог я много лет могу работать с клиентом для формирования этого ощущения ответственности за собственную жизнь.
Это должно произойти именно в подростковом возрасте, потому что потом вернуть собственную самостоятельность достаточно сложно. Как глубинный психолог я много лет могу работать с клиентом для формирования этого ощущения ответственности за собственную жизнь.
- Понять, кто они и что для них важно.
- Понять свои собственные страхи и научиться с ними справляться, понять свои мечты и свои устремления. Подростку очень важно услышать, к чему направлены его интересы, задатки, кем он может стать в отличие от родителей.
- Познать свое тело, потому что сексуальные и гендерные отношения – это основная задача подросткового возраста. Я очень много говорю об этом с родителями и объясняю, что подросткам нужно учиться вообще справляться с собственным телом, узнать его, овладеть им и потом еще доверить это тело другому своему партнеру. Потому что в подростковом возрасте уже нужно выйти на взрослую сексуальность.
Это мы знаем о подростках. Но нам интересны сегодня родители. Следующий наш вопрос: что происходит все-таки с родителями, чего они боятся? Потому что они очень многого боятся. Что им сложно принять?
Но нам интересны сегодня родители. Следующий наш вопрос: что происходит все-таки с родителями, чего они боятся? Потому что они очень многого боятся. Что им сложно принять?
Я бы хотела подвести некоторый итог нашей годичной плотной работы с родителями. Мы проводим вебинары каждую неделю, у нас длительная двухмесячная родительская группа, потом мы сопровождаем индивидуально родителей. У нас каждый месяц есть неделя бесплатных образовательных вебинаров, мини-курсов, постоянно действующие страницы во всех соцсетях, где публикуются постоянные исследования, информация, ответы на вопросы родителей, статьи по подростковому возрасту. То есть очень плотная работа.
ЧЕГО ЖЕ БОЯТСЯ РОДИТЕЛИ?
1. Родители путают сепарацию с потерей.
Если глубже заглянуть во внутренний мир родителя, то та сепарация, которая необходима ребенку, внутри родителем переживается, как потеря. И это правда, родители часто этого боятся и говорят об одиночестве, что по-настоящему они почувствовали это одиночество рядом с ребенком в подростковом возрасте. Это переживание, с которым важно справиться, потому что по-настоящему родитель почувствует сепарацию, если он пережил тотальное одиночество и никто не умер, как говорится. Важно до родителей донести некие критерии нормальной сепарации, настоящей сепарации и отличить ее от потери.
Это переживание, с которым важно справиться, потому что по-настоящему родитель почувствует сепарацию, если он пережил тотальное одиночество и никто не умер, как говорится. Важно до родителей донести некие критерии нормальной сепарации, настоящей сепарации и отличить ее от потери.
2. Родители проецируют свои непроработанные страхи на детей.
Мы знаем, что основная ведущая форма взаимодействия, начиная с низших слоев психического – это проекция. Зачту некоторые связки, которые сами родители говорят.
Например, фраза отца: «Я был изгоем – мой сын прячется за экраном компьютера». Когда он вспоминает свое детское переживание – изгой – постоянно этот страх проецируется. Ему кажется, что активное взаимодействие с компьютером — это страх сына, что он также переживает вытесненность, не нашел свое место в коллективе. Хотя у сына могут быть совсем другие причины для такого активного использования интернет-пространства.
«Я чувствовала внутреннюю пустоту, искала своих людей» — говорит мама. А ее страх, что ее ребенок очень одинок. Как психологи, вы можете видеть мощные связки.
А ее страх, что ее ребенок очень одинок. Как психологи, вы можете видеть мощные связки.
«Мне говорили, что саморазвитие – это цель» — это то, что мама переживала в подростковом возрасте. Ее тревожит в подростке, что он не имеет цели и желания: «Он потеряшка».
Очень важно, и для родителей прежде всего, чтобы эти связки были обнаружены. Если собственное переживание осознается и отделяется от образа ребенка, это иногда очень позитивно, не знаю, как для родителя, но для подростка точно, потому что снижается бессознательное накопление тревоги.
3. Важно изменить мышление: «как мне помочь подростку» на «что я могу сделать для того, чтобы подросток мог помочь себе сам самостоятельно».
Это тоже очень важный момент, который мы постоянно видим. Родитель, сталкиваясь с некоторой проблемой, как нормальный родитель, сразу ищет и думает, как мне помочь – он сразу решает проблему. В подростковом возрасте должно произойти кардинальное изменение. Уже родитель должен не решать, а думать, как помочь ребенку найти решение собственной проблемы. Это совсем другая ментальная задача и другая психологическая установка на взаимодействие, потому что именно когда родитель из самых благих побуждений пытается решать проблему, подросток всегда будет сопротивляться. Ему нужно забрать эту самостоятельность себе, вернуть ее.
Уже родитель должен не решать, а думать, как помочь ребенку найти решение собственной проблемы. Это совсем другая ментальная задача и другая психологическая установка на взаимодействие, потому что именно когда родитель из самых благих побуждений пытается решать проблему, подросток всегда будет сопротивляться. Ему нужно забрать эту самостоятельность себе, вернуть ее.
У родителя всегда есть растерянность – я же помогаю, я же хочу как лучше! Но это «как лучше» было раньше, в детстве. Сейчас каждый раз, когда подросток что-то может решить сам, каждый раз, когда находит даже неправильное самостоятельное решение, он укрепляет свою самоценность. Другого способа нет.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РАБОТЫ
Мы обнаружили, чего боятся родители. Дальше – как же во время работы группы происходит работа, что у родителей получается?
Действительно, получается, работая с собой, продвинуть подростка в его взрослении. Что же происходит? Какие мы выделяем механизмы психологической работы:
Родитель выстраивает внутреннюю позицию наблюдателя.
Это нужно, важно выстроить – не делать, а думать о своем ребенке, наблюдать. Мы даем много практических визуализаций, заданий: как вам кажется, о чем мечтает ваш ребенок, чего боится? Не спросите его, а подумайте сами и напишите. Должен сформироваться внутренний объект наблюдения. Это очень важная мета-позиция. Потому что если родитель внутри не удерживает образ ребенка, он постоянно привносит себя в общение, а подростку, наоборот, больше нужно давать пространства.
Потом расширяется возможность контейнировать детей. То есть у родителей появляется больше возможностей для понимания причин не только действия, почему он так поступил, наш основной вопрос – почему. Это часто может быть связано не только с семейной ситуацией, а со школьной ситуацией, с внутренними переживаниями, с ранними ситуациями, с которыми ребенок в латентном возрасте справлялся, а в подростковом защита не всегда работает, и подросток не может справиться.
Контейнировать – это как бы удерживать собственные тревоги и тревожные мысли о подростках внутри себя, не переполнять ими своих детей.
Усиливается родительское ревери – это такое аналитическое понятие, когда мы не общаемся со своим ребенком, но есть некоторый образ, когда мы можем думать о его будущем, о том, какой он человек, чем он похож на нас, чем отличается, какие его совершенно уникальные способности. То есть у родителя формируется целостный образ его подростка. Даже если мы видим, что сейчас что-то не очень получается у нашего подростка, он не очень может реализоваться, но мы понимаем, точнее, предполагаем, в каком направлении он бы мог это реализовать.
Легитимизация подростковых трудностей
Родителю нужно понять, что трудности подростка – первые попытки курить, первые драки, непослушание, снижение мотивации к обучению – это все является нормой, и это связано с очень мощной психологической, физиологической, телесной и мозговой перестройкой. Родителю нужно принять, что это норма. Как нормой является ночью вставать, когда ребенок до года просыпается ночью несколько раз — все мамы это знают. Когда он плачет – это тоже норма. Есть некоторое нормальное естественное поведение для ребенка.
Когда он плачет – это тоже норма. Есть некоторое нормальное естественное поведение для ребенка.
Если подросток отлично учится, сидит только дома, выполняет ваши задания, вообще не спорит с вами, то мы, наоборот, говорим, что это не норма, и ищем причины такого поведения. Подросток должен себя вести по-другому. Это «по-другому» очень пугает родителей, но наша задача – привести их к ощущению, что это нормально, позволить этому быть.
Снимается вина: «Я плохой родитель», потому что родители впервые сталкиваются с собственными неудачами, с непослушанием, с резкими конфликтами. Действительно, первое переживание: «Я что-то сделал не так, я плохой родитель» важно снять и объяснить родителю, что он действительно хороший родитель. Люди получают огромную групповую поддержку.
ПРИМЕРЫ
Хотела бы привести примеры, потому что у нас отличные результаты по очень сложным проблемам, в том числе это:
· Психосоматика;
· Дезадаптация;
· Агрессивное поведение;
· Сложности обучения.
Это примеры конкретных работ. Психологи – наши коллеги, зная о нашем проекте и как мы работаем, отправляют родителей и говорят: «Не движется работа. С подростком чуть-чуть продвинулись, видим, что внутренняя структура дома не сохраняется, что родители не могут ее поддержать».
1.1. Психосоматика
Например, мама пришла, потому что очень сильно ее волновали активные тики у ее девочки-подростка – голосовые, лицевые, активные тики глаз. Естественно, для очень симпатичной девочки это катастрофа, и мама вся в переживаниях. Лечение у врачей не эффективно, причем уже несколько лет. Все говорят, что нужно работать с психологом.
Мама прошла тренинг. Оказалось, у нее были собственные большие сложности в подростковом возрасте в области сексуального взросления, прямо трагические ситуации. Мама, прорабатывая и вспоминая все, что ей приходилось пережить, по-другому начала относиться к сексуальному взрослению своей дочери. Бессознательно были положены запреты на то, что если дочь столкнется с взаимодействием своим телом, с близостью с мальчиками, она может попасть в те же сложности, что и мама. Было настолько сильное бессознательное желание уберечь свою дочь, что тема секса была совершенно закрыта для девочки. А девочка красивая, она растет, тело требует некоторых экспериментов.
Было настолько сильное бессознательное желание уберечь свою дочь, что тема секса была совершенно закрыта для девочки. А девочка красивая, она растет, тело требует некоторых экспериментов.
Мама начала прорабатывать собственные страхи, говорить то, что каждая мама должна сказать своей дочери в период 12-13 лет, обсуждать возможность у девочки экспериментировать с телом, объяснять, что такое первая мастурбация, онанизм, что она имеет право переживать возбуждение, когда мальчик ей нравятся. Это тонкие, интимные вещи, которые ребенок должен себе позволить и не бояться, не чувствовать это стыдным.
Буквально в работе психолог сообщила, что за 4 месяца тики ушли, и возникли совершенно другие проблемы – конфликты в этой паре. Девочка начала с мамой активно конфликтовать. Но мама уже была больше готова к этой агрессии, и уже могла с этим справляться. Внутренняя агрессия была все-таки выведена вовне. Это такая совместная работа мамы и нас, как группы родителей, и психолога, который работал непосредственно с ребенком.
1.2. Психосоматика
Второй пример тоже очень сложный. Мы знаем, что подростковый возраст манифестирует много сложнейших психосоматических заболеваний. У одной девочки в нашей работе проявился сахарный диабет. Мне даже сложно это произнести, просто жалко ребенка. Основная тревога мамы была связана с тем, что гормональные изменения постоянно влияли на сахар. Основное ее требование было – пожалуйста, следи за своим здоровьем, возьми ответственность, делай необходимые процедуры. Эта зона конфликта была очень острой.
Мы очень много работали над этим страхом и виной этой мамы за то, что это произошло, как она не уберегла, как она считала, своего ребенка. Постепенное контейнирование и уход от конфликта, когда мама говорила: «Ты безответственная, ты себя доведешь до гроба» — иногда и такое звучало. А девочка кричала: «Это мое тело! Не хочу, не смей, не лезь! Что хочу, то буду есть, не ограничивай меня!»
Как только между ними ушел конфликт и они нашли больше точек соприкосновения, мы сказали –убираем вообще эту зону. Месяц можно об этом не говорить. Мама пришла с тем, что неожиданно дочь сама начала читать справочники о правильном питании, заниматься здоровьем, может, и не связанным с контролем сахара, но этот контроль к ней вернулся. Конечно, это для нас была большая победа.
Месяц можно об этом не говорить. Мама пришла с тем, что неожиданно дочь сама начала читать справочники о правильном питании, заниматься здоровьем, может, и не связанным с контролем сахара, но этот контроль к ней вернулся. Конечно, это для нас была большая победа.
2. Дезадаптация
Тоже был очень сложный подросток, который просто отказался ходить в школу. Наблюдался достаточно серьезный уровень аутизации, он сидел закрытый, ограниченный своим столом и компьютером. Тоже постоянный уход от больной зоны через контакт – что он ищет, что дает компьютер, от чего он защищает. Мама говорила про свои ассоциации, как ей сложно с этим. Она ему рассказывала свои истории из детства. Но через полгода мы видим – он ходит в школу, нашел в Малой компьютерной Академии свою стаю «лебедей», где он чувствует себя таким же успешным. Он пошел в мир, и похоже, что очень хорошо себя реализует.
3. Агрессивное поведение
Очень часто обращаются к нам с тем, что такого уровня конфликты, что буквально родители держат руки за спиной, чтобы не треснуть, потому что мы знаем, что телесно наказывать подростка нельзя ни в коем случае. Это они не прощают. Собственно, и словом нельзя оскорблять.
Это они не прощают. Собственно, и словом нельзя оскорблять.
Решается тоже через постоянную работу над тем, что не удается сказать тихим голосом, из какого-то другого состояния, а нужно обязательно кричать, в какой точке происходит этот взрыв. Постоянно мы даем некоторое пространство в нашей работе, где родители сначала учатся находиться рядом со своим подростком, например, вместе смотрят фильм. Это домашнее задание: посмотреть с подростком фильмы. Некоторые подростки с удовольствием берут чай, садятся, а иногда мама сидит и смотрит, а ребенок ходит постоянно из детской на кухню и обратно мимо телевизора.
Мы объясняем родителям, что это способ собственного присутствия, выбор интенсивности – насколько подросток может рядом быть с родителем, насколько это для него выносимо, потому что сидеть у мамы под крылышком – это значит быть маленьким (может так переживаться подростком). Это тоже важно позволить подростку. Многие мамы говорили, что вообще забыли, что такое совместное проведение времени. Но домашние задания нужно выполнять — мы говорим, что все ОК, вы все понимаете, вам очень хочется изменений, но, пожалуйста, работайте! Нам нужен четкий план действия, тогда мы можем видеть результат (или не видеть). Если мы не делаем, априори его не увидим.
Но домашние задания нужно выполнять — мы говорим, что все ОК, вы все понимаете, вам очень хочется изменений, но, пожалуйста, работайте! Нам нужен четкий план действия, тогда мы можем видеть результат (или не видеть). Если мы не делаем, априори его не увидим.
С такими точками сближения тоже уходит агрессия из семьи, например, от мамы к папе, потому что часто подростки разделяют: папа – друг, мама – агрессор, потому что носки заставляет убирать. Хотя материнская фигура для подростка особенно важна. Когда возвращаются другие зоны взаимодействия, сама собой агрессия снижается, она направляется в деятельность.
Этот мальчишка, который дома все это закатывал, в доме вообще было невозможно – каждое слово могло превратиться в истерику или скандал – выбрал вид спорта, связанный активно с мячом. Нам показалось, что это способ немножко символизировать свои чувства.
4. Сложности обучения.
Это самая большая проблема. Мы сейчас активно работаем над мини-курсом по проблемам обучения, потому что конечно же у родителей две задачи:
1. С одной стороны помочь подростку удержаться в интересе, в мотивации, потому что она обязательно придет в 10-11 классе. Это мы все знаем из возрастной психологии.
С одной стороны помочь подростку удержаться в интересе, в мотивации, потому что она обязательно придет в 10-11 классе. Это мы все знаем из возрастной психологии.
2. В то же время сформировать ответственность, но чтобы контроль был не тотальным. Иначе внутри не сформируется собственная ответственность за то, кто я, или кем я хочу стать, или что я могу сделать для того, чтобы им стать.
Мы знаем, что у подростков очень высокие интеллектуальные возможности, а обучение очень низкое. Этот феномен всегда и родителей поражает, и нас. Ты видишь – ребенок умный, с очень высоким IQ, но он вообще не показывает никаких результатов. Там есть очень маленькие, но важные нюансы, которые нам важно донести родителям.
Такие краткие, может быть, обобщённые примеры, но я постаралась взять разные сферы, чтобы посмотреть разные страхи и переживания, которые происходят в душе родителей.
ПОЧЕМУ ПОДРОСТКИ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА (18-20 И ДАЛЬШЕ) ЗАСТРЕВАЮТ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ И НЕ ИДУТ ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ
Хотела бы еще поделиться интересным наблюдением. Мы с моей коллегой Елизаветой являемся соавторами нашего проекта, активно участвуем в разных конференциях. На последней Европейской конференции в Триесте целый блок был посвящен подросткам. Оказалось, мы просто в потоке мирового исследования поведения подростков. Там было представлено потрясающее видео, если мы получим согласие автора, его можно будет перевести.
Мы с моей коллегой Елизаветой являемся соавторами нашего проекта, активно участвуем в разных конференциях. На последней Европейской конференции в Триесте целый блок был посвящен подросткам. Оказалось, мы просто в потоке мирового исследования поведения подростков. Там было представлено потрясающее видео, если мы получим согласие автора, его можно будет перевести.
Основной вопрос исследования был: почему подростки старшего возраста (18-20 и дальше) застревают в подростковом возрасте и не идут во взрослую жизнь. Часто наблюдаем, что старший подростковый возраст растягивается до 40 – люди не хотят вступать в отношения, много интереса к пробам, к путешествиям, к инновациям – очень подростковый драйв.
Основной вывод исследования: подростки не хотят выходить из переходного периода. Подростковая поведенческая незрелость продлевается до 40 лет. Почему?
Исследования показали, что у нынешнего поколения подростков практически нет неструктурного беззаботного периода детства, потому что фактически много социальных требований и ожиданий наложены на детство в наше время, именно на детство.
Все родители знают — если в детстве не заложить какие-то навыки: дать хорошее образование, выучить несколько языков, привить любовь к спорту, дать серьезные увлечения и хобби, то во взрослой жизни дети просто не выдержат конкуренции, не будут успешны. Фактически сейчас с 6 месяцев раннее развитие предполагает активное развитие способностей ребенка, структурирование. Нет этого единственного времени и места беззаботности, неструктурности, которые могут быть в детстве, когда ребенок как будто ничего не делает, но он исследует это мирозданье.
Мы знаем и помним из своего детства, что самые тонкие моменты мы запоминаем — как мы за листочком наблюдали, который летит, или за паутинкой, которая переливается, или в окно смотрели. Это действительно дар ребенка – соединяться со Вселенной, с собственной внутренней самостью. На это остается мало-мало времени, и заполняется родительской тревогой, что что-то мы не успеем дать ребенку. Ребенок перегружен.
Вопрос от слушателя:
ИНТЕРЕСЕН МЕТАФОРИЧЕСКИЙ ОБРАЗ РЕБЕНКА, КАК ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ПОДУШКИ
Многие подростки, отвечая на исследование нашей коллеги, говорили, что постоянно чувствуют, что они являются как бы эмоциональной подушкой для родителей. То есть они постоянно поддерживают, разделяют переживания, если у родителей что-то не получается, или в отношениях проблемы и сложности. Как будто подростки (и не только подростки, а вообще дети) чувствуют некоторую ответственность за эмоциональное состояние своих родителей. Когда ребенок вырастает и может сказать, что родители сами могут справиться, многие подростки говорят – наконец я могу быть свободным. Но свободным не взрослым, а свободным ребенком.
То есть они постоянно поддерживают, разделяют переживания, если у родителей что-то не получается, или в отношениях проблемы и сложности. Как будто подростки (и не только подростки, а вообще дети) чувствуют некоторую ответственность за эмоциональное состояние своих родителей. Когда ребенок вырастает и может сказать, что родители сами могут справиться, многие подростки говорят – наконец я могу быть свободным. Но свободным не взрослым, а свободным ребенком.
В связи с этим мы действительно в своей работе наблюдаем, что выросшие подростки добирают детство, потому что их родители как будто эмоционально вместе с ними выросли и уже должны позаботиться о себе. Это странная, уникальная ситуация. Мы много хотим дать ребенку, но очень много у него забираем. Мы забираем детство, и ему, конечно, хочется немножко побыть в беззаботности, чтобы потом повзрослеть.
Такое интересное последнее исследование. По возможности представим его на своих каналах. Оно очень красиво сделано – все состоит из музыки и фраз самих подростков, и очень эмоционально влияет на родителей – это нужно видеть.
Вместо эпилога
В результате нашей работы:
- Родители могут восстановить связь с собственным внутренним подростком. Для нас это очень важно, чтобы была связь с внутренним подростком у родителя. Он часто вытесняется, но там очень много непережитого.
- Родители делают связь своих навязчивых тревог – то, что их беспокоит – с проекциями на ребенка и берут собственную ответственность за собственные эмоции, чтобы их дети не были эмоциональными подушками.
- Развивается эмпатия.
Коллегам, которые меня сейчас слушали, хотелось бы задать один вопрос: у вас изменились чувства к родителям подросткам? Для меня очень важно, чтобы эти чувства стали другими, чтобы вы почувствовали всю внутреннюю мощь, сложность этого возраста – как же этим бедным родителям все это сконтейнировать, как отправить ребенка во взрослую жизнь, как его не потерять, чтобы не было кривых дорожек в его жизни. Мое выступление связано, конечно, с информацией, но и с эмоциональным откликом тоже, чтобы вы настроились на эмпатический канал к родителям. Тогда все получится.
Мое выступление связано, конечно, с информацией, но и с эмоциональным откликом тоже, чтобы вы настроились на эмпатический канал к родителям. Тогда все получится.
Как найти психотерапевта для вашего подростка
Источник: fizkes/Shutterstock
Для родителей, беспокоящихся о психическом здоровье своего подростка, перспектива найти помощь может сбивать с толку и подавлять. Но лечение доступно, и поиск терапии часто является первым шагом к тому, чтобы помочь вашему подростку двигаться вперед. Вот как начать.
Принятие решения о начале терапии
Бывает сложно отличить типичное подростковое поведение от потенциальных проблем с психическим здоровьем. Полезное различие, от которого часто зависит диагноз, заключается в том, влияют ли эмоциональные, поведенческие или социальные трудности на учебу, отношения или домашнюю жизнь ребенка.
Например, один подросток может перестать ходить на занятия. Другой может перестать встречаться с друзьями и начать изолироваться. Другой может начать спать все время или быть не в состоянии заснуть. В этих случаях стоит обратиться за терапией. Даже если изменения не кажутся серьезными, со временем они могут развиваться как снежный ком, потому что подростковый возраст является критическим периодом развития. Раннее вмешательство является ключевым.
Другой может начать спать все время или быть не в состоянии заснуть. В этих случаях стоит обратиться за терапией. Даже если изменения не кажутся серьезными, со временем они могут развиваться как снежный ком, потому что подростковый возраст является критическим периодом развития. Раннее вмешательство является ключевым.
«Большинство людей приводят своих детей на терапию, когда они находятся в DEFCON 1», — говорит психолог Митч Принштейн, доктор философии, главный научный сотрудник Американской психологической ассоциации. «Это все равно, что привести к врачу ребенка с температурой 101, когда он кашляет кровью. С насморком и небольшой температурой лучше идти к врачу».
Где найти психотерапевта
Существует несколько способов найти психотерапевта для вашего подростка. Один через каталоги. В каталоге Psychology Today Therapy перечислены сертифицированные терапевты для детей и подростков, которых можно отфильтровать по местонахождению и специальности, например, по СДВГ или тревоге.
Родители могут получать направления от друзей, членов семьи и семейного врача. Поначалу такие разговоры могут показаться неудобными, но изучение того, как другие справлялись с подобными ситуациями, может быть полезным и информативным.
Обращение за ресурсами и рекомендациями в школу вашего подростка — еще один путь, хотя некоторые подростки стараются избегать консультаций в школе, чтобы сохранить свое решение пойти на терапию в тайне.
Страховые компании также могут иметь списки поставщиков услуг. Теперь, когда из-за пандемии лечение психических заболеваний перешло в онлайн, вы можете расширить поиск поставщиков услуг по всему штату, а иногда и за его пределами.
Другая идея состоит в том, чтобы изучить организации для конкретных условий. Если у вашего ребенка проявляются все характерные симптомы определенного расстройства или если ему или ей уже был поставлен диагноз, поиск соответствующей группы защиты может привести к ресурсам, специалистам и сообществу.
Факторы, которые следует учитывать при выборе терапевта
При выборе терапевта необходимо учитывать множество факторов, и для этого требуется время и усилия. Родители должны стремиться быть разумными потребителями: убедитесь, что терапевт имеет сертификаты и лицензию, и спросите об их обучении и опыте.
Некоторые конкретные вопросы, которые следует задать, могут включать: «Каков ваш подход к терапии?» «Каким направлениям вы обучаетесь?» «Как может выглядеть потенциальный план лечения?» «Как будет измеряться прогресс?» «Каков был результат для других подростков, которых вы лечили от этого состояния?»
Родители также должны установить четкие правила конфиденциальности, говорит клинический психолог Шэрон Салин, Psy.D. Родитель может спросить: «Каковы ваши границы конфиденциальности?» «Будете ли вы консультироваться с нами вообще, и если да, то как?» «Какую роль будет играть семья в терапии?» Учет точки зрения семьи может быть полезен при рассмотрении динамики, влияющей на психическое здоровье. «Подросток не растет в чашке Петри, — говорит Салин.
«Подросток не растет в чашке Петри, — говорит Салин.
Прежде всего, медицинский работник должен быть обучен подходам, которые, как доказано, уменьшают дистресс ребенка. На сайте EffectiveChildTherapy.org Общества клинической детской и подростковой психологии перечислены расстройства и соответствующие методы лечения, основанные на фактических данных.
В дополнение к клиническому опыту спросите своего подростка, есть ли у него предпочтения относительно пола, возраста и расы терапевта. Может быть полезно выбрать несколько кандидатов, а затем позволить подростку выбрать того, с кем он чувствует себя наиболее комфортно. Отношения между терапевтом и пациентом являются ключом к эффективному лечению, поэтому не торопитесь, чтобы выбрать подходящий вариант.
Разговор с подростком о решении начать терапию
Некоторые подростки могут хотеть начать терапию, в то время как другие могут колебаться или сопротивляться. При обсуждении этой темы избегайте стигматизации или обвинения ребенка, подразумевая, что его трудности связаны с чем-то неправильным, говорит Принштейн. Менее опасная схема — объяснить, что все люди живут в контексте, а не в вакууме, и что то, что происходит в их жизни, может быть связано с несоответствием между тем, кто они есть, и их окружением. Может быть, то, что работало раньше, перестало работать из-за перемен, таких как развод, переезд или, конечно же, пандемия. Другой вариант фрейминга заключается в том, что терапия может помочь семье научиться лучше работать вместе — семейная настройка, говорит Салин.
Менее опасная схема — объяснить, что все люди живут в контексте, а не в вакууме, и что то, что происходит в их жизни, может быть связано с несоответствием между тем, кто они есть, и их окружением. Может быть, то, что работало раньше, перестало работать из-за перемен, таких как развод, переезд или, конечно же, пандемия. Другой вариант фрейминга заключается в том, что терапия может помочь семье научиться лучше работать вместе — семейная настройка, говорит Салин.
Для подростков также важно иметь чувство контроля, особенно потому, что родители и учителя часто инициируют процесс. «Вы должны давать своему подростку контроль всякий раз, когда можете», — говорит Леа Лис, доктор медицинских наук, детский и взрослый психиатр. «С детьми это доброжелательная диктатура. С подростками это демократия».
Вы можете попросить своего подростка выбрать понравившегося терапевта из нескольких кандидатов. Объясните, что они могут задать тему и поднять все, чем хотят поделиться. Упомяните, что терапия не навсегда — она может длиться всего несколько месяцев. Принстейн говорит: «Точно так же, как вы идете на футбольную тренировку ради футбола, мы будем работать над чувствами в течение 12 недель, и вы уйдете гораздо ближе к тому, чтобы стать экспертом».
Принстейн говорит: «Точно так же, как вы идете на футбольную тренировку ради футбола, мы будем работать над чувствами в течение 12 недель, и вы уйдете гораздо ближе к тому, чтобы стать экспертом».
Подготовка к первому сеансу
Перед первым сеансом объясните, чего следует ожидать вашему подростку. Процесс, скорее всего, начнется с определенного этапа оценки. Это может быть анкета, интервью или тесты на компьютере.
Во время сеанса они будут участвовать напрямую, отвечая на вопросы или делясь своим опытом. Могут быть случаи, когда терапевт и родитель встречаются, в присутствии подростка или без него, чтобы узнать о семейной среде и посмотреть на нее другой парой глаз.
Родителям также может потребоваться время, чтобы привыкнуть к процессу. «Первая сессия может быть немного неловкой, — говорит Салин. Но со временем подростки часто чувствуют себя комфортно, рассказывая о том, что они действительно чувствуют.
По мере продвижения терапии подростки должны знать, что они могут помочь сформировать процесс. «Дети имеют право голоса, — говорит Принштейн. «Дайте им возможность высказаться».
«Дети имеют право голоса, — говорит Принштейн. «Дайте им возможность высказаться».
Изображение LinkedIn: Prostock-studio/Shutterstock
Как эффективно разговаривать с подростком
Служба детской психологии и школьной психологии Мельбурна, Порт Мельбурн
Подростковый возраст – это переходный период от детства к взрослой жизни. Это период физических, когнитивных, эмоциональных и социальных изменений, которые часто приводят к путанице. Поскольку это период самопознания, для подростков нормально экспериментировать с дружбой, занятиями, веществами и сексуальностью. В поисках своей идентичности и независимости подростки часто выходят за пределы своих возможностей, противостоя родителям, учителям и любой другой авторитетной фигуре.
Однако не все подростки плохие. Они любопытны, веселы и интенсивны! Они находятся в очень уязвимом состоянии и нуждаются в поддержке, заботе и руководстве со стороны взрослых.
Чтобы помочь своему ребенку и себе пережить подростковый возраст, вам необходимо иметь с ним прочные отношения (такие, в которых вы участвуете в их жизни, но не являетесь их лучшим другом – они все равно должны видеть в вас орган власти). Эффективное общение является основой крепких отношений между вами и вашим подростком.
Эффективное общение является основой крепких отношений между вами и вашим подростком.
Вот мои 5 лучших советов по эффективному общению с подростками.
1. Будьте хорошим слушателем
Слушать так же важно, как и говорить в процессе общения. Обратите внимание на то, что говорит ваш подросток, и постарайтесь понять не только содержание, но также его взгляды и чувства. Даже если вы не согласны с тем, что они говорят, продолжайте слушать и будьте открыты для основного сообщения. Держите свое мнение, взгляды и чувства при себе, пока не придет ваша очередь говорить — не поддавайтесь желанию вмешаться!
2. Установите зрительный контакт
Зрительный контакт является очень важной формой невербального общения. Когда вы устанавливаете зрительный контакт, вы проявляете интерес и, скорее всего, обратите внимание. Зрительный контакт также даст вам больше информации о том, что чувствует другой человек.
3. Будьте настойчивы
После того, как вы выслушали подростка, наступает ваша очередь говорить. Будьте открытыми, честными и уважительными. Будьте уверены в том, что вы хотите сказать (что вы хотите, в чем нуждаетесь или чувствуете), не будучи агрессивным или пассивным. Если вы спорите, избегайте сарказма и не преувеличивайте (например, «вы всегда…», «вы никогда…») и не навешивайте ярлыки (например, «вы лжец/ленивый/грубый»).
Будьте открытыми, честными и уважительными. Будьте уверены в том, что вы хотите сказать (что вы хотите, в чем нуждаетесь или чувствуете), не будучи агрессивным или пассивным. Если вы спорите, избегайте сарказма и не преувеличивайте (например, «вы всегда…», «вы никогда…») и не навешивайте ярлыки (например, «вы лжец/ленивый/грубый»).
4. Вовлекайте их (учитывайте их мнение)
Когда вы спрашиваете подростков об их мнении, вы заставляете их чувствовать себя ценными и уважаемыми. Вы покажете, что их мнение важно, и что вы заботитесь о них. Вместо того, чтобы быть чрезмерно авторитарным, попробуйте сотрудничать с ними, чтобы найти решение или золотую середину.
5. Не отправляйте смешанные сообщения
Будьте уверены в сообщении, которое хотите передать. Будьте ясны и не противоречите сами себе. Очень важно, чтобы ваше невербальное общение соответствовало тому, что вы говорите. И, конечно же, подавайте личный пример: если вы говорите со своим подростком о важности физических упражнений, почему бы не заняться ими самому или, что еще лучше, не пойти на пробежку вместе!
Хорошо, я сказал 5 советов, но еще один важный совет, чтобы выжить в подростковом возрасте вашего ребенка:
6.
 Сохраняйте спокойствие
Сохраняйте спокойствие Независимо от того, что говорит ваш подросток, старайтесь сохранять спокойствие! Вы хотите показать подростку, что он может делиться с вами информацией без осуждения. Чем большую поддержку вы оказываете, тем больше вероятность того, что ваш подросток будет поддерживать ваше участие в его жизни.
Помните : каждый день уделяйте время тому, чтобы укреплять отношения с подростком. Сходите на прогулку, выпейте кофе, пригласите их на ужин или присоединитесь к классу вместе. Проявляйте интерес к тому, что им интересно (например, к музыке, книгам, мероприятиям, спорту и их друзьям). Это даст вам возможность иметь больше общих вещей, о которых можно говорить, и поддерживать с ними здоровые отношения.
И если вам нужна конкретная помощь или совет по поводу ваших родительских проблем, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Чем мы можем помочь?
Запишитесь на первичную консультацию для родителей, чтобы получить правильный совет для нужд вашего ребенка.
 Нажмите здесь, чтобы заказать телефонный звонок, и психолог позвонит вам в удобное время (только для потенциальных клиентов). Пожалуйста, имейте в виду, что мы часто заняты с клиентами, но мы делаем все возможное, чтобы ответить на все запросы в течение одного рабочего дня. 🙂
Нажмите здесь, чтобы заказать телефонный звонок, и психолог позвонит вам в удобное время (только для потенциальных клиентов). Пожалуйста, имейте в виду, что мы часто заняты с клиентами, но мы делаем все возможное, чтобы ответить на все запросы в течение одного рабочего дня. 🙂 Почему нас выбрали 2866* родителей?
(*по состоянию на 24 июля 2019 г.)
- Конфиденциально и конфиденциально: Мы являемся частной службой, поэтому вы получите 100% независимый и конфиденциальный совет.
- Детские и подростковые специалисты: Мы работаем только с детьми школьного возраста, подростками и родителями.
- Эксперты в области образования и школы: Мы поможем вам сориентироваться в школьной системе, чтобы добиться наилучших результатов для вашего ребенка.
- Квалифицированный и опытный: У нас работают только психологи со степенью магистра или выше и опытом работы в школах.

- Быстрые встречи: Мы не держим лист ожидания и принимаем новых клиентов в течение 7 дней.
- Удобное расположение: Мы находимся в Миддл-парке, откуда легко добраться из многих районов Мельбурна и есть неограниченная уличная парковка.
- Надежные методы: Мы используем подходы, полностью подтвержденные научными данными или клиническим опытом.
- Прекрасный офис на берегу моря: Вам понравится наш тихий, современный и привлекательный офис с его комнатами, оформленными в пляжной и морской тематике.
5 типов консультантов для подростков
Перейти к содержимому
1. Поведенческие терапевты
Одним из наиболее распространенных типов консультантов, к которым могут направить подростка, является поведенческий терапевт. Эти специалисты работают с людьми, часто индивидуально, над тем, как изменить свое поведение в ответ на их гнев, депрессию, беспокойство, расстройство пищевого поведения, злоупотребление психоактивными веществами или другие проблемы. Поведенческий терапевт не лечит заболевание в одиночку; вместо этого они учат своих клиентов методам совладания с реалиями, навязываемыми их условиями.
Поведенческие терапевты часто используют следующие методы лечения:
- Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) — это метод, который помогает подростку изучить, как он реагирует на свою тревогу, депрессию или другое состояние психического здоровья. Консультанты проведут вашего подростка через шаги, необходимые для изменения его образа мыслей, реакций и другого поведения.
- Диалектическая поведенческая терапия (ДПТ) – это лечение использует некоторые из тех же методов, но добавляет ролевые игры и другие методы выработки того, как реагировать на отношения в жизни подростка. Это часто используется для людей с пограничным расстройством личности.
2. Семейные терапевты
Когда лечащийся пациент является подростком, во многих случаях вся семья нуждается в консультации. Это происходит по нескольким причинам:
- Во-первых, ваш подросток частично является продуктом его или ее семьи, и выявление и улучшение отношений, которые он или она имеет с вами и другими членами семьи, часто является важной частью восстановления после какие бы проблемы ни были.

- Во-вторых, вам и братьям и сестрам вашего подростка может быть полезно общаться с проблемным подростком в присутствии психотерапевта. Вы все можете освоить навыки общения и поделиться своими проблемами в безопасном месте.
Семейным терапевтом вашего подростка может быть тот же человек, который посещает его или ее во время частных сеансов, или это может быть кто-то другой. Если кто-то в вашей семье не хочет посещать семейную терапию, все равно запланируйте сеансы терапии с теми членами семьи, которые готовы. Много раз неохотный человек приходит. А даже если и нет, то лучше иметь сеансы с некоторыми членами семьи, чем не иметь их вообще.
3. Групповые терапевты
Другой частью режима консультирования вашего подростка могут быть встречи для сеансов групповой терапии. Обычно это один или несколько консультантов и группа молодых людей, которые переживают те же или подобные трудности, что и ваш подросток. Сеансы групповой терапии обычно проводятся в дополнение к индивидуальному консультированию, но иногда они являются единственным видом терапии, который есть у подростка. Этот тип терапии позволяет вашему подростку формировать связи и доверять другим людям, у которых есть подобные проблемы. Разговаривая с другими людьми в той же ситуации, ваш подросток может увидеть вещи с другой точки зрения и поделиться своими мыслями.
Этот тип терапии позволяет вашему подростку формировать связи и доверять другим людям, у которых есть подобные проблемы. Разговаривая с другими людьми в той же ситуации, ваш подросток может увидеть вещи с другой точки зрения и поделиться своими мыслями.
Групповая терапия часто используется для подростков, борющихся со следующими проблемами:
- токсикомания
- расстройства пищевого поведения
- посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР)
- потеря и горе гнев, беспокойство или другие психические расстройства.
4. Школьные консультантыУ вашего подростка, вероятно, есть доступ к консультанту или терапевту в его или ее старшей школе, и он может воспользоваться этой возможностью, чтобы поговорить с кем-нибудь в школьной среде. Школьный консультант часто может помочь подросткам, которые сталкиваются с такими проблемами, как: 9
- проблемы в отношениях с друзьями тревога
- глубокая депрессия
- суицидальные мысли
- злоупотребление психоактивными веществами
Если у вашего подростка проявляются симптомы умеренного или тяжелого психического расстройства, важно, чтобы ему или ей была необходима помощь специалиста по психическому здоровью. Школьный консультант вашего подростка сообщит вам, если он считает, что ваш подросток может причинить вред себе или другим, но большинство других вопросов останутся конфиденциальными. Если вы считаете, что вашему подростку было бы полезно поговорить с кем-то, но у него нет никаких тревожных признаков психического здоровья, хорошим выбором будет школьный психолог.
Школьный консультант вашего подростка сообщит вам, если он считает, что ваш подросток может причинить вред себе или другим, но большинство других вопросов останутся конфиденциальными. Если вы считаете, что вашему подростку было бы полезно поговорить с кем-то, но у него нет никаких тревожных признаков психического здоровья, хорошим выбором будет школьный психолог.
5. Игра, искусство и другие терапевты
Многие люди хорошо выражают себя через игру, искусство и другие виды деятельности. В частности, если вашему подростку трудно открыться консультанту, вам может помочь особый тип терапевта. Вопреки распространенному мнению, игровые и арт-терапевты, а также те, кто использует животных в своих практиках, предназначены не только для маленьких детей. Подростки и даже взрослые могут воспользоваться этими программами. Поговорите с педиатром вашего подростка, семейным врачом или текущим поставщиком психиатрических услуг о преимуществах этих видов терапии и получите направление, если они подходят для вашего ребенка.


