Индивидуализм что это: ИНДИВИДУАЛИЗМ | Энциклопедия Кругосвет
«Тоскующие индивидуалисты»
- Соцопросы показывают, что коллективизм, «общинность», «соборность» русских – миф; россияне – одни из самых больших в мире индивидуалистов.
- Люди не верят в коллективное действие, часто не способны договориться и предпочитают решать проблемы самостоятельно.
- Индивидуализм россиян проявляется в их низком уровне доверия, в отсутствии альтруизма.
- Свойственная русскому народу общинность была раздавлена коллективизацией и последующими действиями советской власти.
- В последнее время появился некоторый запрос на коллективные действия и волонтерство, но для этого нужны институты, социальная структура.
Сергей Медведев: С наступившим Новым годом! Год новый, но вопросы вечные. Русские люди являются индивидуалистами или коллективистами? Все больше социологических опросов показывают, что «общинность», «соборность» русских – не более чем миф.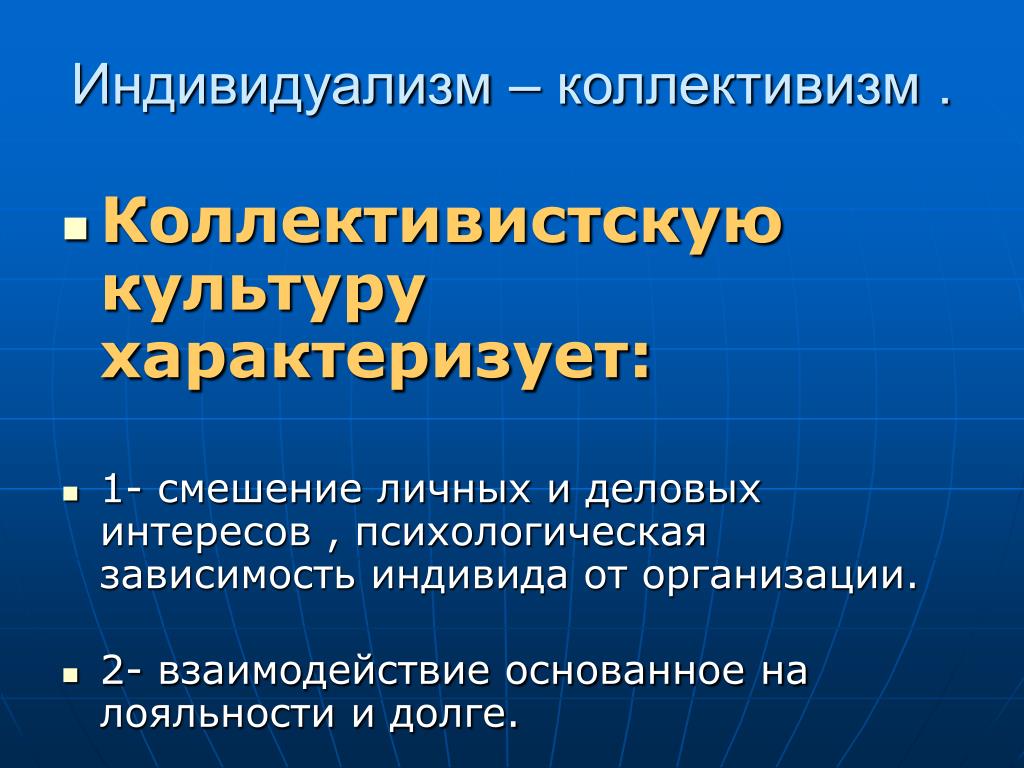
Корреспондент: Соотношение между коллективным и индивидуальным – один из базовых вопросов социологии. Сегодня оно меняется: все чаще вместо стабильных и постоянных объединений мы видим кратковременные, но мощные.
Обычно в основе демократических обществ лежит синтез индивидуального с коллективным, то есть преуспевание и конкуренция сочетаются с совместным управлением и коллективной борьбой за права. Социологи говорят, что сегодня для России характерен провал коллективности: люди не верят в коллективное действие, часто не способны договориться и предпочитают решать проблемы самостоятельно. Вопросы, почему это происходит и что в наибольшей мере влияет на формирование общества сегодня, остаются открытыми.
Сергей Медведев: У нас в гостях Борис Грозовский, экономический обозреватель, и Григорий Юдин
, профессор МВШСЭН (Шанинки).Григорий Юдин: В значительной степени разговоры о каком-то присущем русскому народу коллективизме сегодня не подтверждаются никакими данными исследований.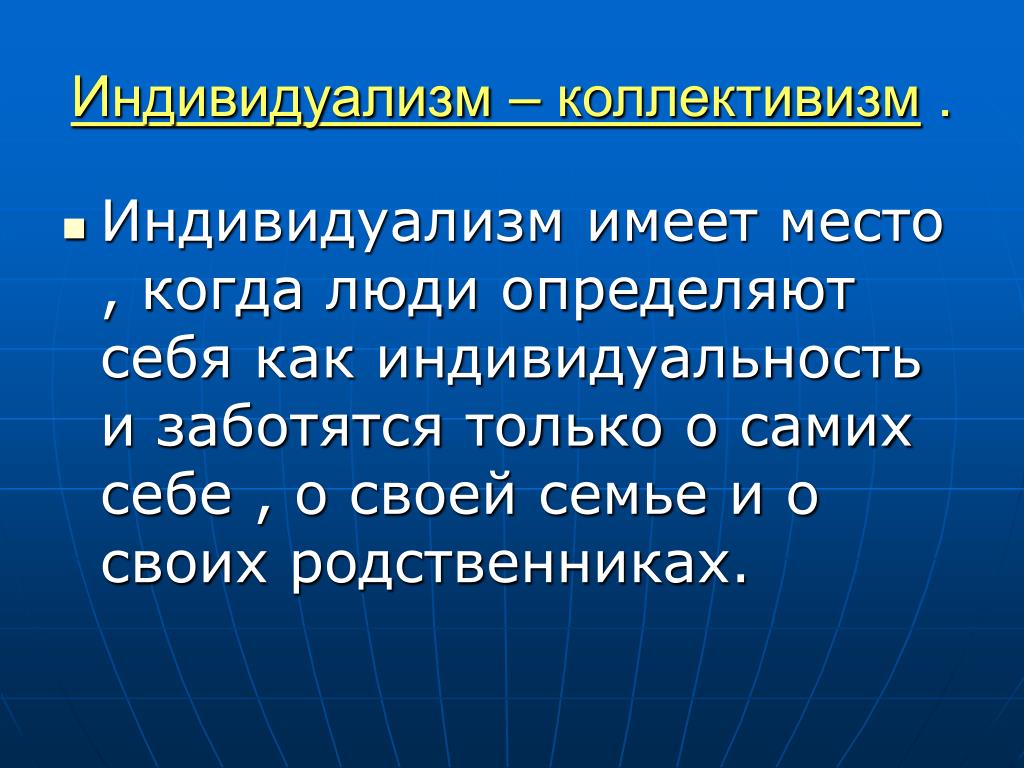 Мы видим, что Россия, по данным международных исследований ценностей, каждый раз обнаруживает очень сильную индивидуалистическую ориентацию, гораздо более сильную, чем, скажем, в странах Европы или Америки. Кроме того, уровень индивидуализма в России постоянно растет. Для страны также характерен очень низкий уровень межличностного доверия – это тоже отличительная черта индивидуалистических обществ.
Мы видим, что Россия, по данным международных исследований ценностей, каждый раз обнаруживает очень сильную индивидуалистическую ориентацию, гораздо более сильную, чем, скажем, в странах Европы или Америки. Кроме того, уровень индивидуализма в России постоянно растет. Для страны также характерен очень низкий уровень межличностного доверия – это тоже отличительная черта индивидуалистических обществ.
Сергей Медведев: Это что, следствие провала рынка и общественных институтов в течение последней четверти века? Ведь советский человек гораздо больше верил в какие-то коллективные ценности, и уровень доверия был выше.
Люди меняются: в один исторический период им присуще одно, а в другой – другое
Борис Грозовский: Люди меняются: в один исторический период им присуще одно, а в другой – другое. И это очень зависит от институтов, от политического строя, от всей институциональной матрицы. Наверное, правильно говорить, что мы были коллективистами, по крайней мере, в последнее десятилетие существования СССР в той мере, в какой удалось воспитание «нового человека». И конечно же, мы совершенно перестали быть коллективистами за последние пару десятилетий.
И конечно же, мы совершенно перестали быть коллективистами за последние пару десятилетий.
Сергей Медведев: Если взять классическую англоязычную литературу, о России пишут, что были угрозы, был плохой климат, была крестьянская община, которая выживала только вместе, была коллективная собственность земли, черный передел. Куда девалась эта русская общинность?
Григорий Юдин: Русскую общинность начисто снесла коллективизация. Собственно, она против нее и была направлена.
Сергей Медведев: Именно коллективизация, а не 1861 год?
Григорий Юдин: Это был длительный процесс. Но коллективизация стала решительным ударом. Все-таки земское или народовольческое движение надеялись на то, что 1861 год высвободит энергию, связанную с русской коллективной жизнью, для того чтобы можно было на нее опереться. Другое дело, что это не всегда получалось, получалось только отчасти, но в некоторой степени эта энергия все-таки стала основанием для революционных преобразований начала ХХ века. Но потом был нанесен решительный удар – совершенно сознательно и целенаправленно, это был способ уничтожить общину. Потом ее некоторое время добивали.
Но потом был нанесен решительный удар – совершенно сознательно и целенаправленно, это был способ уничтожить общину. Потом ее некоторое время добивали.
И поэтому сегодня всерьез говорить о том, что в России осталась какая-то общинная жизнь или даже хоть что-нибудь от нее, – это значит просто не понимать, что такое общинная жизнь. Непонятно, в какой степени жизнь в общине действительно основана на единстве, на чувстве принадлежности к чему-то целостному, на не самостоятельном, а совместном принятии решений. Да, конечно, она подавляющая – это правда, но при этом она дает тебе и силу поддержки. А какая сила поддержки сегодня хоть где-то, хоть даже на крестьянском уровне? Люди чувствуют себя одинокими, брошенными, оставленными один на один со своими заботами. Это совершенно не типичная для общинной жизни ситуация.
Борис Грозовский: Наверное, единственная форма, где это осталось хотя бы еще чуть-чуть, хотя в какой-то редуцированной форме, – это старообрядческие сообщества. Ну, и где-то в деревне люди все-таки спокойно делятся деньгами, перекидывают друг другу какие-то десятки килограммов картошки. Это все общинные формы жизни.
Ну, и где-то в деревне люди все-таки спокойно делятся деньгами, перекидывают друг другу какие-то десятки килограммов картошки. Это все общинные формы жизни.
Сергей Медведев: В условиях большого города у людей, приехавших из Дагестана или Ингушетии, коллективность сохраняется больше, чем у русских?
Григорий Юдин: Это стандартный аргумент: чужие этносы, приезжая в незнакомую среду, выживают за счет того, что создают плотные сообщества с очень высоким уровнем доверия. За счет этого они получают дополнительный ресурс. Конечно, в этнических сообществах это работает. Но это какие-то специальные случаи. И конечно, ни о каком русском коллективизме, русской общинной жизни говорить не приходится.
Сергей Медведев: По-моему, в русской диаспоре за рубежом такого не наблюдается.
Григорий Юдин: Да, это не очень для нее характерно.
Борис Грозовский: Это, конечно, эффект коллективизации и всей советской ломки.
Сергей Медведев: Это долго оставалось в советском городе, в коммунальной квартире – перекредитоваться, поделиться едой…
Григорий ЮдинГригорий Юдин: Мы обычно относимся к советской пропаганде со скепсисом и с некоторой насмешкой, но при этом почему-то по-прежнему продолжаем потреблять миф о том, что советский человек был коллективистом. Что там был за особый коллективизм? Скорее, наоборот, коллективизм был остающийся, еще недобитый, а советский проект потихонечку его вымарывал.
Борис Грозовский: Скорее Советская власть, Компартия со спецслужбами хотели, чтобы люди были коллективистами. И дальше вопрос: в какой степени им это удавалось? Видимо, в 20–30-х годах удавалось больше, а в конце 60–70-х – меньше.
Григорий Юдин: Но даже у Платонова можно видеть, как менялось его чувство коллективности от 20-х к 30-м. Мы открываем «Счастливую Москву» и видим его знаменитую формулу, что любовь не может быть коммунизмом. Любовь плоха тем, что она недостаточно коммунистична. Это слишком приватное взаимодействие. Ему хочется большего. И вот уже в «Котловане» мы видим совершенно искусственную, насильственную коллективность, процесс раскулачивания. Мы видим, как рушится вся эта мечта Платонова.
Сергей Медведев: Маркс писал: почему в России не может быть революции? Стояло клеймо, что русский – это азиатский способ производства, общинность…
Григорий Юдин: Да, но в советское время он был раздавлен асфальтовым катком. Но не стоит забывать и то, что случилось в постсоветский период. Если в советском обществе и была какая-то потенциальность для развития коллективной жизни, то ею как раз никто и не воспользовался. А в 90-е годы мы начали строить либеральную демократию. А либеральная демократия – это, с одной стороны, рыночная экономика, выборы и защита индивидуальных прав, но это скорее либеральная сторона дела. А демократическая сторона дела – это местное самоуправление, локальная инициатива, профессиональные ассоциации. Но этим по большому счету как раз никто и не занимался. А начиная с 2000-х, это начали просто целенаправленно давить.
А в 90-е годы мы начали строить либеральную демократию. А либеральная демократия – это, с одной стороны, рыночная экономика, выборы и защита индивидуальных прав, но это скорее либеральная сторона дела. А демократическая сторона дела – это местное самоуправление, локальная инициатива, профессиональные ассоциации. Но этим по большому счету как раз никто и не занимался. А начиная с 2000-х, это начали просто целенаправленно давить.
Сергей Медведев: Как и все ростки гражданского общества.
Григорий Юдин: Да, как и местное самоуправление, которое разве что только из Конституции не убрали, и то уже заговорили об этом. Нигде у профессиональных ассоциаций нет никакой власти: везде власть менеджеров. И в этом смысле мы, начиная с 90-х, последовательно строили не либеральную демократию, а либерализм без демократии. Это совершенно несбалансированная ситуация. У нас нет демократических институтов, которые есть в том же американском обществе.
Вообще, в современной социальной науке нет жесткого противопоставления между коллективизмом и индивидуализмом. Вопрос в том, как можно совместить эти две вещи. Это не континуум, а два уровня, и для того чтобы общество жило в относительном порядке и развивалось, необходимо, чтобы существовали оба. Традиционное общество, жестко коллективистское, не развивается, а индивидуалистическое общество, в котором нет коллективной жизни, разваливается.
Если мы говорим о сегодняшней российской ситуации, то проблема скорее в том, что у нас вроде как развита индивидуалистическая ориентация, но она не лежит ни на каком базисе коллективной жизни. У нас ценится индивидуальный успех. Посмотрите, кого нам демонстрируют в качестве образцов какие-нибудь ток-шоу по телевидению. Это люди, которые добились индивидуального успеха. Они что, сделали что-нибудь хорошее для общества? Ничего подобного! Но ценится свой индивидуальный успех, а не чужой. Проблема все время с тем, чтобы почувствовать успех чужого, личностное развитие другого как то, что нужно и выгодно мне.
Сергей Медведев: Понятие коллективной выгоды.
Чтобы чувствовать значимость индивидуальных прав, сначала нужно ощущать коллективные права и вместе за них бороться
Григорий Юдин: Совершенно верно. Поэтому, чтобы чувствовать значимость индивидуальных прав, сначала нужно ощущать коллективные, наши общие права и вместе за них бороться. Ведь если у нас нет опыта совместной борьбы за эти права, то что мне до ваших прав, меня интересуют свои.
Борис Грозовский: Поэтому с таким трудом приходит осознание, что собственность – это не только право, но и обременение. Ты должен как-то следить за этой собственностью. Она как минимум не должна причинять проблемы другим людям.
И есть же разные коллективизмы. Есть коллективизм, в котором все мы должны быть одинаковыми.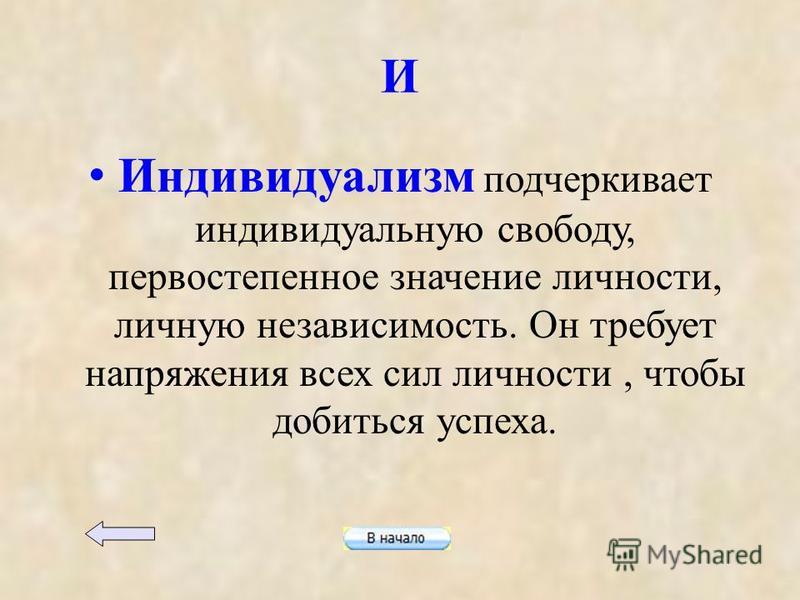 ..
..
Сергей Медведев: Казарменный коммунизм.
Борис Грозовский: А есть социальность, которая предполагает некоторую коммунитарность, то есть совместность людей в общей работе над проектами. Вся современная проектная работа построена на этой социальности нового типа.
Сергей Медведев: Я читал исследования работодателей HeadHunter. Они говорят: «Нигде в мире люди так мало не готовы работать в коллективе, как русские».
Григорий Юдин: Но надо понимать, что это системная проблема. Это не связано с каким-то врожденным неумением людей в России работать в коллективе. Это скорее общая ситуация, которая чисто идеологически построена на натравливании людей друг на друга. Нужно хорошо понимать, чему нас учат господствующая идеология: она нас учит бояться друг друга и не иметь дело с другим. Другой – страшный, от него идет какой-то хаос, он хочет причинить тебе вред. И единственный способ от него спастись – это пойти под сильного начальника, который разведет вас по углам и не допустит стычки.
Борис Грозовский: Построить трехметровый забор…
Григорий Юдин: Современные российские институты – это заборы. И взаимодействие с другим – это либо игнорировать его, отгородиться от него, либо наехать на него, но не ожидать от него какой-то элементарной кооперативности. На этом базируется вся современная российская идеология.
Сергей Медведев: Откуда это взялось? Мой любимый пример – автомобильные аварии в Москве. Я провел неделю в Пекине, ездил на такси и не видел аварий. Я прилетаю в Москву и на пути от Домодедова до собственного дома насчитываю семь аварий. В Китае есть понятие общего интереса: люди все время готовы уступать. А в России главный вопрос – кто ты такой, и нужно непременно доказать, что ты имеешь право. И большинство аварий – от неуступчивости, от отсутствия коллективного блага, способности к коллективным действиям. А китайцы в своем муравейнике способны к ним.
Борис Грозовский: Рефлекс, который есть у людей в России на дорогах, – это предварительно наехать, независимо оттого, что случилось, и неважно, кто виноват.
Сергей Медведев: Когда и почему это случилось? Все-таки советский человек 70-х и 80-х годов не был таким.
Григорий Юдин: Это специфическая комбинация постсоветской усталости, навязанной искусственной коллективности, в которую никто не верил, но к которой всех принуждали. С одной стороны, это попытка из нее вырваться. А, с другой стороны, на нее наложилась эксплуатация тяги к успеху, мотивация к индивидуальным достижениям, к жесткой конкуренции, к самостоятельному выживанию без расчета на какую бы то ни было помощь со стороны общества или окружающих.
Сергей Медведев: Как бы аллергия на советскую идеологию.
Григорий Юдин: Она привела к тому, что маятник качнулся в радикально другую сторону. И люди, устав от этой навязанной искусственной коллективности, кинулись реализовывать свои индивидуальные свободы под лозунгом «Я никому ничего не должен».
Борис ГрозовскийБорис Грозовский: С одной стороны, старая идеология в один момент испарилась. А, с другой стороны, огромное количество людей оказалось поставлено в ситуацию выживания, когда им больше не помогает то, чему они выучились, и не работают те карьерные траектории, которые они построили в начале 80-х. Непонятно, как заработать на кусок хлеба, каждый за себя. Может быть, сначала это было не стремление к индивидуальному успеху, а стремление к индивидуальному выживанию. Это немного похоже на ситуацию в лагере.
А, с другой стороны, огромное количество людей оказалось поставлено в ситуацию выживания, когда им больше не помогает то, чему они выучились, и не работают те карьерные траектории, которые они построили в начале 80-х. Непонятно, как заработать на кусок хлеба, каждый за себя. Может быть, сначала это было не стремление к индивидуальному успеху, а стремление к индивидуальному выживанию. Это немного похоже на ситуацию в лагере.
Сергей Медведев: Странно, что выживание всегда приводило к коллективности: наличие внешнего риска приводило людей к кооперации ресурсов.
Григорий Юдин: В российском случае задачу выживания отчасти решали с помощью коллективности. Есть исследования о том, что в 90-е годы были сильны так называемые межсемейные сети взаимопомощи. Но это же не означало создание какой-то стабильной коллективной жизни. Это такие сети взаимоподдержки, которые в данный момент удерживают тебя. Как только появляется какая-то экономическая подушка, они распадаются. И это последний ресурс, на который мы можем полагаться. Мы знаем, что общество, когда оно оказывается доведено до какой-то голодной черты, начинает эффективно пользоваться этим ресурсом. Но как только исчезает большая опасность, снова доминирует необузданный индивидуализм и жестокая конкуренция. В этой среде российские люди чувствуют себя более комфортно.
И это последний ресурс, на который мы можем полагаться. Мы знаем, что общество, когда оно оказывается доведено до какой-то голодной черты, начинает эффективно пользоваться этим ресурсом. Но как только исчезает большая опасность, снова доминирует необузданный индивидуализм и жестокая конкуренция. В этой среде российские люди чувствуют себя более комфортно.
В чем состоит шокирующее действо нынешней жесткой пенсионной реформы? Даже не в том, что у кого-то отобрали какие-то денежные ресурсы. Это скорее еще одно указание на то, что все твои предыдущие расчеты, приготовления, вся твоя жизненная стратегия не имеет смысла: нет смысла ничего планировать, всегда полагайся только на себя в данную конкретную минуту.
Сергей Медведев: Это поведение людей, оставленных государством.
Григорий Юдин: Да.
Сергей Медведев: Ведь говорили, что советский человек – иждивенец, несамостоятельный, он, привык полагаться на государство. Это что, все полностью исчезло? Советский человек был абсолютно несамостоятельный, и вдруг через звериный опыт выживания выросли индивидуалисты?
Это что, все полностью исчезло? Советский человек был абсолютно несамостоятельный, и вдруг через звериный опыт выживания выросли индивидуалисты?
Григорий Юдин: Не надо недооценивать значимость тех реформ, которые были проведены в 90-е годы и проводятся до сих пор. Реформы по отрезанию ответственности государства продолжаются вплоть до 2018 года, как мы хорошо видим на последних примерах. И у них еще довольно большой потенциал. Поэтому мы видим всю эту обострившуюся «замечательную» риторику, что «вот вам никто ничего не должен, разбирайтесь сами».
Принято считать, что эти реформы были неуспешными и ничего не поменяли. Но в социальном смысле они как раз поменяли многое и достигли ровно того, чего должны были достичь: насаждения индивидуалистической этики ответственности за себя и безразличия к окружающим. С другой стороны, вся эта доктрина советского человека довольно противоречива. Да, с одной стороны, он такой коллективист, иждивенец и так далее. А с другой стороны, Левада, а потом Гудков признавали, что это на самом деле не столько коллективность общинного типа, сколько атомизация. Если нужно одним словом описать сегодняшнее состояние, то это не «коллективизм» или «индивидуализм», а скорее «атомизация», индивидуализм атомизированного типа, потерянность, оторванность от любых социальных связей. И на самом деле это прослеживалось с самого начала.
А с другой стороны, Левада, а потом Гудков признавали, что это на самом деле не столько коллективность общинного типа, сколько атомизация. Если нужно одним словом описать сегодняшнее состояние, то это не «коллективизм» или «индивидуализм», а скорее «атомизация», индивидуализм атомизированного типа, потерянность, оторванность от любых социальных связей. И на самом деле это прослеживалось с самого начала.
Сергей Медведев: Насколько велика роль альтруизма в современной России? Человек готов совершать какие-то волонтерские действия?
Григорий Юдин: То, что у нас обычно принимают за коллективизм, – это банальная зависть, которая скорее является эксцессом индивидуализма. Коллективизм, которого хотелось бы, в большей степени связан с солидарностью, взаимопомощью и участием в каких-то коллективных проектах. Маятник индивидуализма качнулся так далеко, что люди все больше и больше чувствуют необходимость участвовать в коллективных проектах. В противном случае не очень понятно, какие еще жизненные цели оставляет сегодняшняя российская жизнь. Кроме растущего потребления, что еще можно сделать в этом самом модусе «я никому ничего не должен и хочу иметь то, то и то»? Люди начинают на это реагировать, и мы видим все больше и больше проектов, ориентированных на поиск какой-то возможности коллективного действия. Это может быть волонтерство или местное самоуправление, на которое сейчас есть явный запрос.
В противном случае не очень понятно, какие еще жизненные цели оставляет сегодняшняя российская жизнь. Кроме растущего потребления, что еще можно сделать в этом самом модусе «я никому ничего не должен и хочу иметь то, то и то»? Люди начинают на это реагировать, и мы видим все больше и больше проектов, ориентированных на поиск какой-то возможности коллективного действия. Это может быть волонтерство или местное самоуправление, на которое сейчас есть явный запрос.
Даже самые последние истории с региональными выборами показывают, что в значительной степени это реакция на концентрацию власти в центре и полное игнорирование местной социальности. Поэтому в значительной степени эти выборы оказываются чисто протестными. В последнее время мы видим все более и более явный запрос на солидарность и совместные действия. Другое дело, что это тяжело, потому что невыгодно государству.
Борис Грозовский: Когда у людей появляются хотя бы небольшие ресурсы времени, сил или денег, они готовы вкладывать это в общее дело. Но этот излишек очень мал. Кроме того, такая добровольная коллективность и солидарность все время соперничает с коллективностью, навязанной государством. Добровольное объединение автономных людей возможно, когда этих автономных людей не собрали в кучу и не сказали им шагать направо или налево.
Но этот излишек очень мал. Кроме того, такая добровольная коллективность и солидарность все время соперничает с коллективностью, навязанной государством. Добровольное объединение автономных людей возможно, когда этих автономных людей не собрали в кучу и не сказали им шагать направо или налево.
Еще одна важная вещь: государство как бы не задает образцов. У нас почти нет внятных примеров, когда мы можем сказать: о, человек заработал и так-то распорядился своим капиталом (построил школу, больницу и так далее). Такие примеры есть, но их считанное количество, и многие из них сомнительны. В результате получается, что государство минимизирует свои обязательства, как мы видим на примере пенсионной реформы, но это-то и вызывает у людей обратную реакцию. Вы минимизируете свои обязательства передо мной – значит, я больше ничего не должен вам. Это толкает в индивидуализм, когда каждый за себя.
Григорий Юдин: Все такого рода проекты, построенные на солидарности, сталкиваются с естественным страхом. Как только ты начинаешь иметь дело с другими, в какой-то момент тебе приходится договариваться, ограничивать свой собственный интерес и так далее. В этот момент у людей возникает давний страх: «А не то же ли это самое, что было при Советском Союзе? Я не хочу обратно в СССР, поэтому давайте-ка я буду сам по себе и без вас». И это трудность для всех коллективных проектов.
Как только ты начинаешь иметь дело с другими, в какой-то момент тебе приходится договариваться, ограничивать свой собственный интерес и так далее. В этот момент у людей возникает давний страх: «А не то же ли это самое, что было при Советском Союзе? Я не хочу обратно в СССР, поэтому давайте-ка я буду сам по себе и без вас». И это трудность для всех коллективных проектов.
Сергей Медведев: Мне кажется, что эти коллективные проекты каждый раз возникают от проблем, от угроз.
Григорий Юдин: В условиях такого разобщения, как в России, коллективность проще всего строить негативно, в ответ на что-нибудь.
Борис Грозовский: Исходный стимул может носить негативный характер. Но в качестве реакции на реновацию, например, возникают какие-то местные сообщества, которые потом не распадаются, а начинают решать какие-то свои вопросы, уже не имеющие прямого отношения к реновации.
Государству в России повезло с населением: это люди, не способные к коллективным протестным действиям
Сергей Медведев: Государству в России повезло с населением: это люди, не способные к коллективным протестным действиям. Во Франции весь конец прошлого года – это движение «Желтых жилетов». Вот вам неожиданный гигантский всплеск французской коллективности! В России ничего такого даже близко невозможно.
Во Франции весь конец прошлого года – это движение «Желтых жилетов». Вот вам неожиданный гигантский всплеск французской коллективности! В России ничего такого даже близко невозможно.
Григорий Юдин: Я думаю, более чем возможно, и мы это увидим в ближайшее обозримое время. Просто Россия характеризуется тем, что ее сильно качает из стороны в сторону. Такого рода всплески у нас могут носить еще более сильный характер, чем более-менее умеренный и относительно контролируемый всплеск во Франции. В России маятник уже доходит до такой степени, что потом его разворачивает до конца. Мы любим крайности.
Борис Грозовский: Если протестовать, то жечь дворянские усадьбы, причем все!
Сергей Медведев: «Желтые жилеты» примерно в этом плане пока и действуют. Насколько эта французская метафора применима к современному российскому обществу?
Борис Грозовский: Не знаю. Я не такой оптимист, как Григорий. Мне не кажется, что в ближайшие годы мы увидим подъем коллективного действия, просто потому, что на каждое такое добровольное объединение есть ОМОН, РПЦ, Росгвардия, которые довольно быстро приводят все это к «норме».
Мне не кажется, что в ближайшие годы мы увидим подъем коллективного действия, просто потому, что на каждое такое добровольное объединение есть ОМОН, РПЦ, Росгвардия, которые довольно быстро приводят все это к «норме».
Григорий Юдин: Есть два основных направления, в которых может развиваться эта коллективность. С одной стороны, это какие-то местные движения, локальные объединения, профессиональные ассоциации, на которые все время есть запрос. А, с другой стороны, это то, что более характерно для современного мира. Ведь мы еще находимся в некоторой общемировой тенденции, связанной с тем, что человеческая социальность меняется, все чаще и чаще принимая характер внезапных массовых всплесков. В чем сейчас проблема с «Желтыми жилетами»? Непонятно, с кем там разговаривать, в чем состоят их требования, как можно с ними о чем-нибудь договориться.
Сергей Медведев: Законы интернета даже больше объясняют такое моментальное возбуждение больших масс людей.
Борис Грозовский: Уже «арабская весна» была такой.
Сергей Медведев: Я думаю, что для людей, принимающих решения в Кремле, это еще одно подтверждение, почему надо бояться любых форм коллективности, любой мобилизации гражданского общества.
Борис Грозовский: Я как раз думаю, что это очень опасная логика. Лучше было бы сейчас позволить какие-то более-менее социализируемые локальные формы коллективности, ведь чем дальше ты это давишь, тем сильней будет потом этот внезапный выплеск, который ты не сможешь предсказать. А это, по крайней мере, можно контролировать. Там есть, с кем разговаривать. Разумная власть скорее заинтересована в том, чтобы такие формы были под контролем, с ними можно было вести диалог и идти им на уступки.
Сергей Медведев: Я вспоминаю 2012 год – совершенно неожиданный всплеск этой коллективности на «Оккупай Абай»: неожиданно десятки тысяч людей приходили, самоорганизовывались, устраивали дежурства, лекции. Это говорит о том, что страх коллективности – внешний, навязанный. Коллективность существует. Люди готовы к коллективным действиям, к волонтерству. Но необходимо создать для этого институты, социальную структуру, и тогда мы вместе сможем нарабатывать общественное благо.
Это говорит о том, что страх коллективности – внешний, навязанный. Коллективность существует. Люди готовы к коллективным действиям, к волонтерству. Но необходимо создать для этого институты, социальную структуру, и тогда мы вместе сможем нарабатывать общественное благо.
Григорий Юдин. Кто мы — индивидуалисты или коллективисты? — Видео
Я занимаюсь социальной теорией и эмпирическими исследованиями, и сегодня у нас в лекции будет немножко и того и другого. Начнем с теории, а потом перейдем к эмпирическим исследованиям и попытаемся сделать некоторые обобщения.
Индивидуалисты мы или коллективисты? Я думаю, все знают этот фрагмент: «Наши люди в булочную на такси не ездят!» И многим он приходит в голову, когда речь идет об исконном коллективизме, который торжествует в России. Что мы видим в этом коротком фрагменте (кадр из фильма «Бриллиантовая рука».— “Ъ”)? Во-первых, что вызывает у нас, наверное, наибольшее раздражение — уравниловка в том, что касается стиля жизни и потребительских стандартов. Есть кто-то, кто говорит от лица коллектива и запрещает человеку иметь собственный потребительский стандарт. Человек немедленно маркируется как не «наш» и вызывает отторжение. Во-вторых, зависть к чужим успехам. Потому что речь идет не просто о том, что человек другой, а о том, что он, вероятно, имеет больший доход, большие возможности. Мы знаем, что на самом деле в фильме это не так. Тем не менее это вызывает такую реакцию, и предполагается, что если ты экономически успешен, то это немедленно исключает тебя из «нашего» круга. В-третьих, в замечательном дядечке, который что-то пишет у себя в блокнотике, мы видим достаточно жесткий контроль. Контроль или слежку, которая осуществляется от лица коллектива, с реальной угрозой создать проблемы. Мы понимаем, что эта дама до некоторой степени не шутит. Она действительно может устроить некоторое количество трудностей человеку, которого решила атаковать.
Есть кто-то, кто говорит от лица коллектива и запрещает человеку иметь собственный потребительский стандарт. Человек немедленно маркируется как не «наш» и вызывает отторжение. Во-вторых, зависть к чужим успехам. Потому что речь идет не просто о том, что человек другой, а о том, что он, вероятно, имеет больший доход, большие возможности. Мы знаем, что на самом деле в фильме это не так. Тем не менее это вызывает такую реакцию, и предполагается, что если ты экономически успешен, то это немедленно исключает тебя из «нашего» круга. В-третьих, в замечательном дядечке, который что-то пишет у себя в блокнотике, мы видим достаточно жесткий контроль. Контроль или слежку, которая осуществляется от лица коллектива, с реальной угрозой создать проблемы. Мы понимаем, что эта дама до некоторой степени не шутит. Она действительно может устроить некоторое количество трудностей человеку, которого решила атаковать.
Все это является, может быть, не лучшим выражением представления о том, что такое коллективизм, который в нашей стране существовал и, видимо, продолжает существовать по сей день.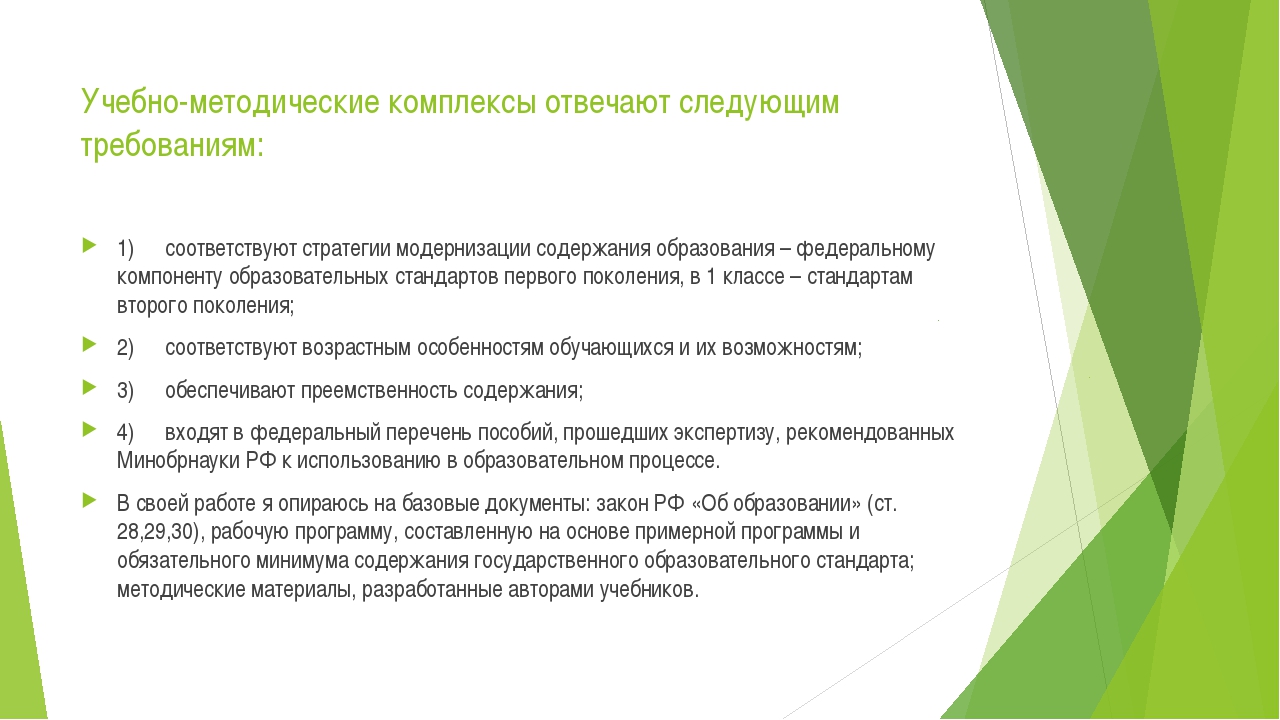 Я, впрочем, обращу ваше внимание на то, что фильм снят в 1969 году и все это в нем показано во вполне ироническом ключе.
Я, впрочем, обращу ваше внимание на то, что фильм снят в 1969 году и все это в нем показано во вполне ироническом ключе.
Идея о том, что коллективизм неотступно следует за нами из советского прошлого, на самом деле высказывается очень часто и вполне серьезными исследователями. Возможно, самая известная формулировка этой идеи была предложена Юрием Левадой (советский и российский социолог, основатель «Левада-Центра».— “Ъ”) и потом развивалась и продолжает развиваться его первым и главным учеником — Львом Гудковым (советский и российский социолог.— “Ъ”). «Простой советский человек» — это коллективное исследование, проводить которое группа Юрия Левады начала еще в 80-е годы и на основании которого строила масштабные антропологические обобщения касательно природы человека в целом. Посмотрим на то, в чем состоит эта модель. Я буду опираться на то, как ее излагает Гудков, и скажу сразу, что буду ее немножко упрощать, потому что внутри себя она довольно сложная и, на мой взгляд, противоречивая.
Гудков говорит, что одна из ключевых характеристик простого советского человека — то, что он называет социальным инфантилизмом, патернализмом и принятием произвола начальства. Это означает неверие в собственные силы, в собственный индивидуальный потенциал, беспрекословное принятие власти, которая дана сверху, и надежда на эту власть. Вторая ее важная характеристика — это уравнительные установки, то есть склонность к тому, чтобы вне зависимости от того, о каком ресурсе идет речь, уравнивать и относиться к неравенству с подозрением, неприятием и завистью. Зависть — это то, что потом перетекает в третью характеристику — комплекс неполноценности. Ущемленность, зависть, стремление не развиваться самому, а тормозить окружающих, держать их на своем уровне и не давать им вырваться вперед.
В принципе, если мы посмотрим на эти три черты, то это примерно то, что мы только что обнаружили в героине Нонны Мордюковой (фильм «Бриллиантовая рука».— “Ъ”), и то, что нас больше всего раздражает. В этом смысле героиня Нонны Мордюковой — идеальный простой советский человек. Гудков, кстати, добавляет сюда еще веру в собственную исключительность, в то, что мы — советские люди — чем-то отличаемся от всех остальных, что у нас какая-то исключительная судьба. Но это нас интересует сегодня меньше, а первые три черты очень хорошо вербализуют идею советского коллективизма. Гудков прямо так и называет простого советского человека — человеком коллективным, для которого характерно групповое принуждение, коллективное заложничество, конформистское единомыслие, общность фобий и предрассудков. Судя по описанию, крайне неприятный тип.
В этом смысле героиня Нонны Мордюковой — идеальный простой советский человек. Гудков, кстати, добавляет сюда еще веру в собственную исключительность, в то, что мы — советские люди — чем-то отличаемся от всех остальных, что у нас какая-то исключительная судьба. Но это нас интересует сегодня меньше, а первые три черты очень хорошо вербализуют идею советского коллективизма. Гудков прямо так и называет простого советского человека — человеком коллективным, для которого характерно групповое принуждение, коллективное заложничество, конформистское единомыслие, общность фобий и предрассудков. Судя по описанию, крайне неприятный тип.
На самом деле это не просто портрет среднего советского человека, это довольно мощная в смысле своей объяснительной широты теория. Потому что она предполагает, что этот самый советский человек не просто где-то существует как средний тип, а способен к самовоспроизводству. И хуже всего то, что он это делает в условиях меняющихся или даже изменившихся институтов и социальных структур, в результате чего эти самые институты извращает. Грубо говоря, когда ему предлагаются какие-то новые институты, сам он внутри не меняется и использует их так, как ему удобно и привычно использовать. Это более или менее стандартное объяснение провала институциональных реформ. Потому что люди, которые проводят институциональные реформы, обычно надеются, что если поменять институты, то поменяются человеческие мотивации и действия. Но нет же, говорит нам этот подход, все эти реформы наталкиваются, как на каменную стену, на этого самого простого советского человека, который все равно все видит по-своему, который настроен только на самовоспроизводство и с которым по большому счету ничего невозможно поделать.
Грубо говоря, когда ему предлагаются какие-то новые институты, сам он внутри не меняется и использует их так, как ему удобно и привычно использовать. Это более или менее стандартное объяснение провала институциональных реформ. Потому что люди, которые проводят институциональные реформы, обычно надеются, что если поменять институты, то поменяются человеческие мотивации и действия. Но нет же, говорит нам этот подход, все эти реформы наталкиваются, как на каменную стену, на этого самого простого советского человека, который все равно все видит по-своему, который настроен только на самовоспроизводство и с которым по большому счету ничего невозможно поделать.
Именно поэтому простой советский человек оказывается несовместим с теми институциональными реформами, которые проводились в России в начале 90-х годов. Он несовместим с рыночной экономикой, он несовместим с либеральной демократией, он несовместим с уважением прав человека, потому что все это по большому счету предполагает гораздо большую степень индивидуализма. Современное же общество, с точки зрения этого подхода, держится принципиально на индивидуальных достижениях, а значит, когда мы имеем дело с этим самым простым советским человеком, он сопротивляется не просто всем этим атрибутам, он сопротивляется истории, он сопротивляется времени, он навечно застрял где-то там далеко.
Современное же общество, с точки зрения этого подхода, держится принципиально на индивидуальных достижениях, а значит, когда мы имеем дело с этим самым простым советским человеком, он сопротивляется не просто всем этим атрибутам, он сопротивляется истории, он сопротивляется времени, он навечно застрял где-то там далеко.
Откровенно говоря, в этой теории есть некоторая непоследовательность. Предполагается, что советского человека сформировали советские структуры, советская идеология, советские институты. В то же время предполагается, что когда он сформирован, то новые структуры, новая идеология, новые институты никакого влияния или воздействия на него оказать не в состоянии — они от него отлетают, как пульки от железного истукана. То есть, когда он формируется, он довольно пластичен, а когда мы имеем дело с какой-то новой институциональной системой, то она уже не в состоянии ничего с ним сделать, он затвердел и резистентен.
На это затруднение есть еще более радикальный ответ. Он состоит в том, что на самом деле коллективист растет вовсе не из советского опыта, а из куда более ранней истории — из русской общины, из этого небольшого узкого мира, который подавляет человеческую индивидуальность. И с тех пор этот самый общинный русский человек никуда не девается. Меняется лишь его внешнее обрамление. То есть это такая историческая константа, которая проходит сквозь всю историю, и по большому счету у нас нет никаких шансов от нее отделаться. Иногда это называют теорией колеи. Предполагается, что мы попали в некоторую антропологическую колею, и дальше уже по большому счету ничего измениться не может — разве что полностью поменять людей, этих выселить куда-нибудь и набрать других, но сделать это сложно, поэтому, увы, перспективы невеселые.
Он состоит в том, что на самом деле коллективист растет вовсе не из советского опыта, а из куда более ранней истории — из русской общины, из этого небольшого узкого мира, который подавляет человеческую индивидуальность. И с тех пор этот самый общинный русский человек никуда не девается. Меняется лишь его внешнее обрамление. То есть это такая историческая константа, которая проходит сквозь всю историю, и по большому счету у нас нет никаких шансов от нее отделаться. Иногда это называют теорией колеи. Предполагается, что мы попали в некоторую антропологическую колею, и дальше уже по большому счету ничего измениться не может — разве что полностью поменять людей, этих выселить куда-нибудь и набрать других, но сделать это сложно, поэтому, увы, перспективы невеселые.
В общем, все выглядит так, как будто мы застряли в коллективизме, в то время как мир движется к индивидуализму, и мы идем по дороге, которую нам преграждает этот самый Франкенштейн — простой советский человек. И самое страшное в нем не то, что он стоит у нас на пути, а то, что на самом деле это мы и есть. И по большому счету нам пришлось бы вытянуть себя за волосы из болота, чтобы что-нибудь с этим сделать. Такой подход обычно приводит к глубоко пессимистическим взглядам, предсказаниям и пониманию перспектив. Потому что раз это антропологическая константа, то с ней, по-видимому, ничего сделать невозможно.
И самое страшное в нем не то, что он стоит у нас на пути, а то, что на самом деле это мы и есть. И по большому счету нам пришлось бы вытянуть себя за волосы из болота, чтобы что-нибудь с этим сделать. Такой подход обычно приводит к глубоко пессимистическим взглядам, предсказаниям и пониманию перспектив. Потому что раз это антропологическая константа, то с ней, по-видимому, ничего сделать невозможно.
На самом деле вопрос о коллективном и индивидуальном основополагающий для социальной науки. Но первый сюрприз, который нас ожидает, состоит в том, что классическая социология вовсе не противопоставляет коллективное индивидуальному в том смысле, что одно должно исключать другое. Социология вообще такая наука, которая построена на постоянном обращении к своим истокам, к своим классикам, она все время переосмысливает то, что было заложено в качестве ее фундамента во второй половине XIX — начале XX века. Это совсем молодая дисциплина. Ей всего 100–150 лет — в зависимости от того, как считать. И возникает она как частный проект в рамках большой традиции политической философии, который должен решить проблемы конкретного исторического момента. В это время происходит стремительный прогресс, но при этом не очень понятно, на чем будет дальше держаться общество. Традиционные структуры социального порядка распадаются. Как обществу удержать свою целостность? Как ему не скатиться в междоусобные распри? Как избежать войн? Классики социологии схватились за эти вопросы очень вовремя. Они, конечно, предчувствовали многое из того, что предстояло пройти человечеству в первой половине ХХ века.
И возникает она как частный проект в рамках большой традиции политической философии, который должен решить проблемы конкретного исторического момента. В это время происходит стремительный прогресс, но при этом не очень понятно, на чем будет дальше держаться общество. Традиционные структуры социального порядка распадаются. Как обществу удержать свою целостность? Как ему не скатиться в междоусобные распри? Как избежать войн? Классики социологии схватились за эти вопросы очень вовремя. Они, конечно, предчувствовали многое из того, что предстояло пройти человечеству в первой половине ХХ века.
Если внимательно присмотреться к флагу Бразилии, на нем на фоне звездного неба написано «Ordem e Progresso» — «Порядок и прогресс». Как ни странно, эта надпись появилась на бразильском флаге в прямой связи с социологией. В середине XIX века во Франции жил человек, которого звали Огюст Конт и который считается основоположником социологии,— он придумал этот термин. На самом деле он придумал множество терминов, в частности термин «альтруизм», а также придумал философию позитивизма, которая отвергала всякую религиозную веру, не верила ни во что, кроме фактов,— и в итоге сама, по крайней мере с точки зрения Конта, превратилась в религию. Он основал позитивистскую церковь и стал главным пророком позитивизма на Земле. И это все выглядит как сумасшествие, но в XIX веке у Конта было довольно много последователей — причем преимущественно не во Франции, а в других странах. Кое-где эта позитивистская церковь укрепилась, и одной из тех стран, где она укрепилась наиболее основательно, стала Бразилия, где по-прежнему можно видеть позитивистские храмы, хотя понятно, что сейчас это имеет уже совсем не те масштабы.
Он основал позитивистскую церковь и стал главным пророком позитивизма на Земле. И это все выглядит как сумасшествие, но в XIX веке у Конта было довольно много последователей — причем преимущественно не во Франции, а в других странах. Кое-где эта позитивистская церковь укрепилась, и одной из тех стран, где она укрепилась наиболее основательно, стала Бразилия, где по-прежнему можно видеть позитивистские храмы, хотя понятно, что сейчас это имеет уже совсем не те масштабы.
В Бразилии позитивисты успели оставить след и на бразильском флаге, запечатлев те самые два вопроса социологии, о которых мы говорим,— вопрос о порядке и вопрос о прогрессе. Или по-другому — как возможен порядок в условиях распада традиционного порядка, освобождения человека, эмансипации, расцвета человеческой индивидуальности? И как обеспечить порядок, чтобы при этом был возможен общественный прогресс, чтобы он не остановился? В таком виде вопрос о соотношении индивидуального и коллективного на самом деле является для всех основоположников социологии.
Этот вопрос волновал всех серьезных мыслителей конца XIX — начала ХХ века. Но, пожалуй, наиболее отчетливо он был поставлен человеком, которого называют главным наследником Конта,— Эмилем Дюркгеймом. Дюркгейм понял, что главный цивилизационный вызов заключается в том, как совместить индивидуальное освобождение человека, с одной стороны, и коллективную жизнь — с другой. То есть как не выбирать между ними, а дать пространство и для того и для другого. Понятно, что если индивидуализация ничем не сдерживается и достигает своих пределов, то людей уже ничего не держит вместе, и мы получаем неограниченную конкуренцию, которая в конечном счете выливается в войну, где нет никаких правил и где мы чувствуем себя враждебно расположенными ко всем, кто вокруг, и испытываем необходимость отвоевывать у них ресурсы. С другой стороны, остановить индивидуализацию — Дюркгейм понимал это очень хорошо — значит остановить прогресс. Такие точки зрения, конечно, тоже были. Желающих вернуться в традиционное общество было вполне достаточно. Но Дюркгейм как раз полагал, что это значит поместить человека в ситуацию, где все решения принимаются за него, где его жизнь заранее предопределена кланом, церковью, общиной, подавить его креативный потенциал и остановить общественное развитие.
Желающих вернуться в традиционное общество было вполне достаточно. Но Дюркгейм как раз полагал, что это значит поместить человека в ситуацию, где все решения принимаются за него, где его жизнь заранее предопределена кланом, церковью, общиной, подавить его креативный потенциал и остановить общественное развитие.
Дюркгейм предложил сразу два решения этой проблемы — две модели сочетания индивидуального и коллективного. В 1893 году он написал книгу «О разделении общественного труда», во многом благодаря которой во Франции и появилась социология как институализированная академическая дисциплина. Позже он, по-видимому, разочаровался в этой модели, лет десять ничего не писал, а 1912 году написал работу «Элементарные формы религиозной жизни», в которой была предложена совсем другая модель.
Первая модель, 1893 года, предполагает, что коллективная и индивидуальная жизни существуют одновременно. Они синтезируются в том, что Дюркгейм называет органической солидарностью. Что это такое? Солидарность — это то, что держит общество как некоторое единство. При этом каждый человек занимает в этой системе солидарности свое специальное место. Это похоже на функционирование организма. У каждого из нас есть свое четко определенное место, которое он занимает в этом большом общественном организме. Поэтому Дюркгейм очень большое внимание уделял профессии, которая определяется тем, какую ценность она представляет для общества. Любой профессионал — медик, ученый, кто угодно — в конечном счете движим стремлением быть полезным обществу.
Что это такое? Солидарность — это то, что держит общество как некоторое единство. При этом каждый человек занимает в этой системе солидарности свое специальное место. Это похоже на функционирование организма. У каждого из нас есть свое четко определенное место, которое он занимает в этом большом общественном организме. Поэтому Дюркгейм очень большое внимание уделял профессии, которая определяется тем, какую ценность она представляет для общества. Любой профессионал — медик, ученый, кто угодно — в конечном счете движим стремлением быть полезным обществу.
Органическая солидарность предполагает, что развитие каждого индивида как элемента большого общественного тела способствует общественному прогрессу. Скажем, индивидуальное развитие врача, или изобретателя, или ученого ценится в обществе, потому что оно приносит ему пользу. Именно поэтому врач или ученый считаются престижными профессиями. Если бы они делали что-то совершенно бесполезное обществу, то вряд ли мы бы стали их уважать. Их индивидуальное творчество получает тем самым достойную оценку. Иными словами, чтобы индивидуальные достижения ценились, как ни странно — и это важная мысль,— должен существовать некоторый коллективный консенсус по этому поводу. Мы, как коллектив, должны быть уверены в том, что мы ценим определенные индивидуальные достижения. Если такого консенсуса нет, естественно, каждый начинает уважать только собственный успех, а к окружающим испытывать в первую очередь подозрение и зависть. Дюркгейм доходит даже до того, что в обществе с органической солидарностью должен укрепиться так называемый культ индивида — сочетание коллективного и индивидуального. Как коллектив, мы все глубоко верим в этом коллективном единстве в ценность человеческой индивидуальности. Это первая модель.
Их индивидуальное творчество получает тем самым достойную оценку. Иными словами, чтобы индивидуальные достижения ценились, как ни странно — и это важная мысль,— должен существовать некоторый коллективный консенсус по этому поводу. Мы, как коллектив, должны быть уверены в том, что мы ценим определенные индивидуальные достижения. Если такого консенсуса нет, естественно, каждый начинает уважать только собственный успех, а к окружающим испытывать в первую очередь подозрение и зависть. Дюркгейм доходит даже до того, что в обществе с органической солидарностью должен укрепиться так называемый культ индивида — сочетание коллективного и индивидуального. Как коллектив, мы все глубоко верим в этом коллективном единстве в ценность человеческой индивидуальности. Это первая модель.
Вторая модель предлагает совсем другой ответ. В 1912 году Дюркгейм начинает предполагать, что на самом деле коллективная и индивидуальная жизнь существуют не одновременно. Они чередуются во времени. Что это значит? Это значит, что основную часть времени мы живем своей обычной частной, индивидуальной жизнью и ни в какую коллективную жизнь по большому счету не вовлечены. Но время от времени возникают какие-то коллективные события или движения, которые возбуждают в нас то, что он называет коллективными эмоциями. Они увлекают нас, и благодаря им мы ощущаем себя частью коллектива. Иными словами, социальный порядок поддерживается этими самыми моментами интенсивной коллективной жизни. Дюркгейм назвал это бурлением коллективных чувств. То, что общество при этом не распадается, является следствием остаточного воздействия сильных коллективных чувств. Они потихонечку ослабевают, но все равно мы продолжаем испытывать их в себе.
Что это значит? Это значит, что основную часть времени мы живем своей обычной частной, индивидуальной жизнью и ни в какую коллективную жизнь по большому счету не вовлечены. Но время от времени возникают какие-то коллективные события или движения, которые возбуждают в нас то, что он называет коллективными эмоциями. Они увлекают нас, и благодаря им мы ощущаем себя частью коллектива. Иными словами, социальный порядок поддерживается этими самыми моментами интенсивной коллективной жизни. Дюркгейм назвал это бурлением коллективных чувств. То, что общество при этом не распадается, является следствием остаточного воздействия сильных коллективных чувств. Они потихонечку ослабевают, но все равно мы продолжаем испытывать их в себе.
Для Дюркгейма типичным примером точки кипения коллективных чувств являются праздники. Причем коллективно значимые праздники. Не такие, когда мы не знаем, что делать, и просто едем на дачу, типа 4 ноября, а праздники, которые на самом деле являются моментами коллективной жизни, где мы празднуем вместе, где мы вырываемся из своего привычного состояния, где мы можем переходить какие-то обычно принятые границы и так далее. Скажем, когда мы устраиваем корпоратив на Новый год или празднуем 9 Мая, мы делаем что-то вместе, а не просто расходимся по своим домам. Это, с точки зрения Дюркгейма, оставляет довольно длительный след, который потихонечку затихает, но тем не менее держит нас вместе. Пока через некоторое время не происходит реактуализация. За счет этого, собственно говоря, общество и может существовать.
Скажем, когда мы устраиваем корпоратив на Новый год или празднуем 9 Мая, мы делаем что-то вместе, а не просто расходимся по своим домам. Это, с точки зрения Дюркгейма, оставляет довольно длительный след, который потихонечку затихает, но тем не менее держит нас вместе. Пока через некоторое время не происходит реактуализация. За счет этого, собственно говоря, общество и может существовать.
Между прочим на этом импульсе бурления основан социальный прогресс. Потому что по большому счету, с точки зрения Дюркгейма, наши убеждения, наши стремления, наши мотивации формируются в те редкие моменты, когда происходит выплеск коллективных эмоций. Именно тогда в нас как бы закрепляется понимание того, во что мы верим, ради чего мы живем, ради чего стоит жить. Какие-то глубокие убеждения, ради которых мы готовы действовать в дальнейшем. Это запоминающиеся для нас моменты, когда что-то происходит внутри нас, когда мы претерпеваем некоторую трансформацию и усваиваем глубокие верования и убеждения, которые нами руководят в дальнейшем.
Дюркгейм, естественно, как всякий приличный француз, когда писал что-то по социологии, держал в голове Великую французскую революцию. И Великая французская революция как раз и была таким актом бурления, который закрепил в людях, совершенно не обязательно разделяющих ее убеждения до этого, свои лозунги и свои девизы. А потом закреплял путем повторения. Потому что мы знаем, что любая приличная революция меняет календарь, вводит новые праздники, и этим всем занималась и французская революция. Тем самым она дала длительный импульс, в фарватере которого мы по большому счету находимся до сих пор, потому что лозунги свободы и равенства — это лозунги, которые достались нам от Великой французской революции.
Обратите внимание, что в обеих моделях необходимо, чтобы оба слоя — как коллективный, так и индивидуальный — были крепкими. Различаются эти модели только своим функционированием и тем, как они мыслят соотношение этих слоев. Первая модель Дюркгейма, на самом деле, лучше описывает либеральные демократии, как они формировались в XIX веке. В них либеральный компонент, ответственный за индивидуальную свободу и развитие, сочетается с компонентом демократическим, ответственным за коллективное самоуправление и установление условий для этого самого индивидуального развития, коллективную заботу о том, чтобы каждый из нас мог развиваться как личность.
В них либеральный компонент, ответственный за индивидуальную свободу и развитие, сочетается с компонентом демократическим, ответственным за коллективное самоуправление и установление условий для этого самого индивидуального развития, коллективную заботу о том, чтобы каждый из нас мог развиваться как личность.
Это можно хорошо проиллюстрировать работой, которая была написана чуть раньше,— классической книгой Алексиса де Токвиля «Демократия в Америке», которая стала своего рода хрестоматией либерально-демократического порядка. Она в подробностях показывает, как происходит синтез двух элементов. С одной стороны — элемент либеральный. Токвиль пишет, что нет другой такой страны, где любовь к собственности была бы так сильна, как в Америке. С другой стороны — Токвиль постоянно подчеркивает, что американцам свойственна совершенно невероятная страсть к тому, чтобы решать все вопросы на собраниях,— то, что называется town hall meeting, собрания в ратуше. Именно на этих собраниях и вырабатывается та самая солидарность, благодаря которой американское общество ценит индивидуальную свободу и индивидуальные достижения. Ценит индивидуальный вклад в общественное благо. Ценит индивидуальный успех. Уважение к правам человека возникает из коллективной борьбы за эти права. Оно не возникает просто так, оно не сваливается с неба. Только в том случае права другого могут оказаться важны для меня, если они завоеваны коллективно, если они значимы для всех нас. Поэтому Токвиль говорит, что для свободы, то есть для либерального компонента, публичные собрания — то же самое, что школы для науки. Это такой фундамент, без которого нельзя.
Ценит индивидуальный вклад в общественное благо. Ценит индивидуальный успех. Уважение к правам человека возникает из коллективной борьбы за эти права. Оно не возникает просто так, оно не сваливается с неба. Только в том случае права другого могут оказаться важны для меня, если они завоеваны коллективно, если они значимы для всех нас. Поэтому Токвиль говорит, что для свободы, то есть для либерального компонента, публичные собрания — то же самое, что школы для науки. Это такой фундамент, без которого нельзя.
Вторая же модель Дюркгейма гораздо больше соответствует сегодняшнему дню, когда такие устойчивые, крепкие структуры либеральных демократий становятся все слабее. Люди все меньше участвуют в общественной жизни, ослабляются профессиональные ассоциации, практически везде мы можем видеть, что они замещаются менеджерами и администраторами, которые получают все больше власти. И вообще люди все меньше времени проводят вместе. Американский политический ученый Роберт Патнэм написал известную книгу с красноречивым заголовком «Боулинг в одиночку» о том, что на самом деле боулинг играл очень важную роль в этой самой солидаризации, потому что часто после решения каких-то коллективных вопросов американцы ходили вместе играть в боулинг, ну и выпивать опять же. И просто по данным исследований видно, что сегодня все больше и больше людей играют в боулинг сами по себе. Что, на мой взгляд, довольно странное занятие. Тем не менее. И мы знаем, что даже коммуникация теперь все чаще осуществляется через социальные сети. Так что мы можем подолгу не видеть людей, с которыми на самом деле находимся в интенсивной коммуникации. Это имеет довольно интересные последствия. В результате возникает все больше потенциала для спонтанных, но лавинообразных мобилизаций.
За примерами далеко ходить не нужно. Их очень много в последние годы. #MeToo, #BlackLivesMatters, #OWS. Это несколько, может быть, наиболее известных движений. Все они берут свое начало в Америке, но распространились далеко за ее пределы. Они не похожи на привычные формы коллективных объединений. Они почти никогда не заканчиваются созданием формальных ассоциаций, партий и еще каких-то привычных иерархичных структур. У них есть какие-то устремления, убеждения, цели, но они преследуют их совершенно другими способами. Раньше любая цель такого рода должна была достигаться созданием более или менее институционализированной структуры, в которой есть ответственные лица, на которую можно работать, которая координирована, организована, устанавливает правила членства. Хотя не обязательно быть ее членом, какое-то место в структуре есть у каждого. Сегодня это уже не так. Мы видим, что эти движения действуют практически без всякой структуры. У них есть какие-то лидеры, но они либо случайные, либо быстро меняются, и на следующий день мы про них забываем. И понятно, что дело не в лидерах и не в структурах. Они и координируют сами себя, и понимают сами себя лучше, чем их лидеры. Они совершенно по-другому устроены. Они проносятся ураганом по современному обществу, вызывают у людей сильное чувство причастности к некоему коллективному движению. А потом они могут достигать или не достигать своих целей, но вне зависимости от этого они так или иначе стухают, исчезают или, может быть, трансформируются в какое-нибудь следующее движение.
Мы видим сходные феномены и в России. Часть их приходит к нам из-за границы, и заражение одних обществ другими — это, кстати говоря, еще один очень важный новый элемент, о котором раньше думали очень мало. Раньше казалось, что общество с его проблемами — это такой контейнер, который относительно изолирован от окружающих. Поэтому в рамках первой модели такое заражение нельзя было помыслить. Сегодня мы видим, что они перекатываются, как волна, через границы и подхватываются, модифицируются, меняются в других социокультурных контекстах.
Здесь можно вспомнить не только об этих движениях, но и о тех, которые являются в некоторой степени нашими собственными. Как, например, движение протеста 2017 года, про которое до сих пор пока никто толком не понимает, что это было, но которое тоже носило такой волновой, спонтанный характер. Нет никакой специальной организации. Ее пытаются построить. Может быть, эти попытки приведут к успеху. Но понятно, что это скорее про резкую, внезапную мобилизацию, которую сложно долго поддерживать на одном уровне. И опять же, здесь есть странный, почти мистический элемент инфицирования. Мы с коллегами по Republic даже делали материал, в котором видно, что лозунги, графическое оформление и стилистика протестных движений в разных странах с самыми разными целями — причем иногда с противоположными — удивительно похожи друг на друга. То есть здесь явно происходит неосознанное заражение.
Таким образом, можно сказать, что мир сегодня плавно переходит от первой модели Дюркгейма ко второй. Заметьте, пожалуйста, что не от коллективизма к индивидуализму, а скорее от стабильной институционализированной коллективности к коллективности текучей, спонтанной и мобилизующей. И этот переход от одной модели к другой происходит непросто. Именно с ним и с тем, что он ускорился в последнее время, связано большое количество тревог, которые мы испытываем по поводу того, что происходит сегодня в мировой политике, какие изменения претерпевает сложившийся международный порядок и вообще что будет завтра.
Давайте посмотрим, где во всей этой большой тенденции находится Россия. Если посмотреть на данные международных исследований, то мы увидим, что для россиян, вообще говоря, характерна индивидуалистическая ориентация. Есть международные исследования ценностей — Владимир Магун и Максим Руднев (российские социологи.— “Ъ”) используют данные European Social Survey,— которые позволяют на протяжении длительного времени мониторить динамику ценностей в разных странах. Можно спорить по поводу самого понятия ценностей, я не большой его поклонник. Но, например, Магун и Руднев строят такую модель, которая позволяет на основании нескольких вопросов категоризировать общие ориентации людей. И они их делят на сильную и слабую индивидуалистическую ориентацию, сильную и слабую социальную ориентацию и на то, что они называют ценностями роста. Не сказать, чтобы это была совсем непредвзятая модель, поскольку ценности роста тут стоят отдельно и это то, что явно исследователям симпатичнее всего.
У нас про ценности роста большого разговора не будет, зато можно видеть, как велика в России сильная индивидуалистическая и сильная плюс слабая индивидуалистическая ориентация. Магун и Руднев сравнивают эти показатели с показателями Северной, Западной, средиземной и постсоциалистической Европы, и Россия по всем раскладам выше. Но если смотреть по каким-то конкретным странам, то сильная индивидуалистическая ориентация в России — 26%, в Германии — 14%, в Польше — 13%, в Бельгии — 11%. Если брать сумму двух категорий — сильной и слабой индивидуалистической ориентации, то в России — больше половины, близко находится Испания — 45%, Швеция — 34%, Германия — 26%. Причем обратите внимание, что со временем сумма этих двух категорий только увеличивается.
Другой ключевой показатель — это межличностное доверие, которое как раз никогда не бывает низким там, где сильны коллективные чувства. Это, собственно, любимый показатель того самого Патнэма с его боулингом, которого я упомянул. Снижение интереса к коллективному времяпрепровождению Патнэм напрямую связывает с падением уровня межличностного доверия в Америке. По-русски вопрос формулируется немножко криво, но тем не менее: «Вы считаете, что большинству людей можно доверять, или вы склоняетесь к мнению, что даже излишняя осторожность в отношении с людьми не помешает?» По-английски он звучит гораздо более элегантно: первый вариант — people can be trusted, а второй вариант — we can not be careful. При сравнении ситуации во Франции, Финляндии, Швеции и России оказывается, что в России самый высокий показатель недоверия, то есть легче всего люди говорят: «Нет, ну что вы? Людям нельзя доверять. Что за безумие!» И достаточно редко люди говорят, что в целом, конечно, можно доверять. Это не только наша проблема. Скажем, во Франции тоже достаточно низкий показатель. Ну и понятно, что в условиях низкого межличностного доверия люди заботятся исключительно о собственных интересах. Потому что заботиться о коллективных интересах в ситуации, когда ты никому вокруг не доверяешь, не имеет никакого смысла.
Если взглянуть на дело с точки зрения политической науки, то можно сказать, что ключевой особенностью россиян сегодня является категорическое неверие в возможность коллективного действия. Поэтому так затруднена политическая организация. Есть показатель, который хорошо это иллюстрирует,— ответ на вопрос о том, насколько вы способны принимать активное участие в работе какой-либо группы, занимающейся политическими опросами. По большому счету такой вопрос тестирует готовность человека работать в коллективе. Работать вместе не на свою собственную, а на коллективную цель. И в этом смысле Россия просто рекордсмен. Самый высокий показатель в Европе. 49% — не способны совсем. Еще раз, не у одних нас проблемы. Но настолько масштабные проблемы именно в этой области, пожалуй, именно у нас.
Еще один хороший индикатор — это уровень неравенства. Потому что, естественно, в более коллективистских условиях к неравенству относятся плохо, неравенство стараются контролировать, и там, где сильна солидарность, людям тяжело дается понимание, что когда у тебя есть все, у кого-то рядом с тобой нет совсем ничего. И наоборот, люди крайне болезненно переживают, когда у них нет совсем ничего в условиях, когда у кого-то есть гораздо больше. Причем здесь важны даже не абсолютные показатели, а относительные. Поэтому о солидарности здесь говорить, конечно, невозможно.
Так вот, известный факт, что неравенство в последнее десятилетие в мире в принципе растет, и исключений из этого тренда практически нет, но в странах с высокой солидарностью неравенство в целом несколько пониже. Россия на этом фоне является одним из мировых лидеров. Ведущие исследователи неравенства Филипп Новокмет, Тома Пикетти и Габриэль Цукман (ученые-экономисты.— “Ъ”), которые, собственно, посвятили свои тексты исследованию неравенства в России, показывают, что доля богатства, которым владеют 10% россиян,— около 45%. И это показатель, очень похожий на показатель США, где очень высокий уровень неравенства. Существенно ниже, скажем, Франция, у которой, как мы видели, есть сходные с нами проблемы. Если мы еще увеличим эту картинку и уйдем внутрь этих 10%, то мы увидим, что 1% самых богатых владеет 20% всего дохода. Если мы пересчитаем это в богатство, то там цифры будут еще более впечатляющими — 10% владеют 77% богатства, а 1% владеет 56%. А если мы возьмем из этого 1% только тех, кто является миллиардерами, то они владеют 30% всего богатства. Буквально несколько человек, и мы знаем список, где можно найти эти фамилии.
Еще один важный и довольно интересный индикатор — это религиозность. Все мы знаем, что сегодня в России происходят довольно интересные процессы в области религии. Кто-то даже рискует называть это религиозным возрождением. Вроде как все больше и больше становится людей, которые хотят ассоциироваться с православием. Но исследователи религий, особенно исследователи православия, в этом смысле гораздо более сдержанны в оценках. Потому что по большому счету они пока что видят только увеличение разрыва между декларируемой и реальной религиозностью.
Декларированная религиозность — это когда к вам подходят и спрашивают: «А вы считаете себя верующим человеком?» — и вы говорите: «Да, конечно». Эти показатели действительно растут. Особенно они растут среди православных. То есть все больше желающих говорить: «Да, я — православный». Причем если вы конструируете какие-то дополнительные шкалы и спрашиваете у людей: «Насколько сильно вы веруете?», то они говорят: «Да, да, прямо страшно верую!» Дальше задаешь какие-то простые вопросы, по которым можно оценить то, что называется реальной религиозностью. Коллеги в Свято-Тихвинском университете используют для этого три простых показателя: регулярное посещение храма, регулярное причастие, регулярная исповедь. В общем, это не то, что требует огромных усилий, но при этом показывает, что ты принадлежишь к церковной жизни. И здесь показатели существенно падают. И пока что все возрождение более или менее заканчивается тем, что разрыв увеличивается.
На этом фоне мы видим довольно интересные параллельные тенденции. Это — высокий потенциал ситуативной коллективной религиозности. Ситуация, которая повторяется практически из года в год: в храм привезли мощи, и выстроилась большая-большая очередь. Если бы это произошло однажды, мы бы сочли, что, видимо, действительно привезли какую-то важную реликвию. Но поскольку это происходит из раза в раз и по самым разным поводам, то становится ясно, что уже даже не очень важно, что именно привозят. Находясь в этом коллективном действе, люди получают некоторый важный опыт. Многие из них приехали из регионов, то есть опять же они вырвались из своей повседневной жизни, сломали ее привычный ход и получают коллективный опыт пребывания здесь. Вот что самое важное, что с ними происходит. А не то, что с ними произойдет там. Вы могли бы меня заподозрить в голословных утверждениях, но коллеги провели такого рода исследования. Причем они провели такого рода исследования даже в более чистой ситуации — в очередях в храмы на Пасху. Вроде бы в очереди в храм на Пасху стоят люди глубоко верующие, которые пришли совершить некоторый важный церковный обряд,— но нет. Все то же самое соотношение декларированной и реальной религиозности.
Итак, если мы возвращаемся к терминам Дюркгейма, то это скорее коллективность второго типа, чем первого. С первым типом все как-то не очень гладко, а вот второй тип очень быстро набирает обороты, и буквально в последние несколько лет появилась целая волна такого рода мобилизаций. И мы понимаем, что у них довольно сильный политический потенциал.
Давайте сделаем кое-какие промежуточные выводы. По данным довольно очевидно, что для России характерен провал коллективной жизни, то есть слабость коллективной самоорганизации, постоянные проблемы с нарушением договоренностей — ни с кем невозможно ни о чем договориться, потому что нет межличностного доверия. Те, кто заключал какие-нибудь контракты по сложным рискованным сделкам, знают, что очень часто это происходит в атмосфере глубокого недоверия. Люди готовы подозревать друг друга в чем угодно, в том числе в нарушении тех принципов, которые в принципе невозможно нарушить, постоянно добавляют дополнительные договоренности, условия, форс-мажоры, форс-мажоры к форс-мажорам, форс-мажоры третьего порядка и так далее. Экономисты хорошо знают, что на самом деле длина контракта хорошо коррелирует обратным образом с уровнем межличностного доверия. Потому что если у вас низкое доверие, всегда будут очень длинные контракты, в которых будут прописаны все возможные варианты. И это все равно не поможет.
Мы имеем дело с дисбалансом коллективного и индивидуального — это, пожалуй, самая главная проблема. Недостаток коллективной жизни создает очень серьезный дисбаланс, который приводит к тому, что индивидуализм превращается в атомизацию. Это ситуация, при которой высокий индивидуализм из-за отсутствия компенсации развитой коллективной жизни, точнее из-за отсутствия базы в виде развитой коллективной жизни, приобретает форму агрессивной конкуренции, зависти и, кроме того, усиления центральной власти. Это все типичные симптомы атомизации, то есть симптомы общества, в котором каждый сам за себя, каждый сидит в своей конуре. И понятно, что таким обществом управлять проще всего. Потому что проще всего управлять теми, у кого нет солидарности. Старую притчу о колосках, я думаю, все помнят. Центральная власть всегда пользуется и, в общем, часто умело провоцирует это самое размежевание, атомизацию и превращение индивидуализма в раздробленность. На самом деле все знакомые нам образцы зависти и наступление на права личности, подавление индивидуальной свободы — это как раз результат отсутствия баланса между коллективным и индивидуальным.
Индивидуальный успех в России очень даже ценится. В качестве нормативных примеров, которые нам постоянно даются, скажем, по телевизору, мы видим вовсе не каких-то альтруистов, не людей, которые занимаются самопожертвованием, ничего подобного. В наиболее действенных пропагандистских передачах нам все время предъявляют пример индивидуального успеха. Они могут быть самыми разными, но это примеры успеха. Примеры, на которые нужно ориентироваться. Индивидуальный успех ценится. Но проблема в том, что чужой успех не воспринимается как легитимный, он не признается. Мы как бы не даем право чужому на успех. А это уже симптом отсутствия у нас коллективной базы. Если вернуться к началу сегодняшней лекции, то героиня Нонны Мордюковой — это вовсе не иллюстрация тирании коллектива над индивидом. Героиня Мордюковой — это пример выхолощенности коллективной жизни, пустой зависти тетки-управдома, которая в страхе оказаться проигравшей изображает давление со стороны коллектива, пользуясь для этого властной позицией и какими-то приспешниками, которые у нее есть.
В заключение есть смысл задать вопрос, на который у меня точно не хватит времени ответить обстоятельно. А почему, собственно, так получилось? Фильм 1969 года нам дает первый намек ответа на этот вопрос. По мере ослабевания и завершения советского проекта коллективная жизнь вырождалась и превращалась в пустую маску. То, что называлось коллективом, и то, что сегодня вызывает вполне понятное отвращение у многих людей, конечно, обычно не имело никакого отношения ни к солидарности, ни к общему благу. Это был просто инструмент для отправления административной власти в условиях жестко централизованного государства. А для отдельных людей это был еще и инструмент конкуренции с окружающими — и, как мы видим, довольно злой.
Илья Будрайтскис (историк и публицист.— “Ъ”) сделал очень интересное наблюдение, что примерно начиная с этого времени, может быть, чуть позже, в 70-е и 80-е годы, в советском кино повально распространяется сюжет о героях-следователях, которые борются с экономическими преступлениями. Появляются всякие фарцовщики, спекулянты, и бравые следователи ведут следствия и выводят их на чистую воду. И Будрайтскис говорит, что в этом угадывается молчаливое признание советского общества самому себе в том, что внутрь него на самом деле давно проник этот самый своекорыстный и антисоциальный бизнесмен-индивидуалист, что этот спекулянт — он уже внутри. Он разъедает это самое советское общество. Если там было еще что разъедать.
Алексей Юрчак (ученый-антрополог.— “Ъ”) в уже известной и очень хорошей книге «Это было навсегда, пока не кончилось» пишет, что одной из самых успешных стратегий позднего советского периода было бегство от этой пластилиновой коллективной жизни и от навязывающего ее государства в небольшие кружки и группы, где можно было найти какую-то общность смыслов. Но если говорить о мифах (у нас же цикл про мифы), то из этого мифа о советском коллективизме мы на самом деле до сих пор очень мало знаем о том, как было выстроено реальное соотношение коллективной и индивидуальной жизни в разные периоды существования Советского Союза. То есть по большому счету главная задача социологии в отношении советского общества в общем-то не решена. И это то, чем имеет смысл заниматься сегодня. Социология тогда, понятное дело, была невозможна, поэтому это нужно делать сегодня, чтобы понять, откуда мы происходим.
Но сейчас с нами происходит совершенно удивительная, на мой взгляд, вещь. С одной стороны, мы в голос смеемся и презираем советскую пропаганду, с другой — почему-то странным образом продолжаем верить в то, что она пыталась нам внушить. Например, мы готовы забрать у нее миф о триумфе этого самого сильного и самостоятельного коллектива в Советском Союзе, несмотря на то что она сама, похоже, в это не особенно верила. Во всем остальном мы ей не верим, но в этом почему-то нам критика отказывает. Мне кажется, что сходная ситуация имеет место и в случае с постсоветским периодом. Мы верим в то, что советские институты могли сформировать определенный тип мотивации и ориентации человека, но почему-то отказываемся верить в то, что то же самое могли сделать институты постсоветские. Это парадокс, о котором я говорил в самом начале. Мы готовы признать, что советские институты формировали человека, как пластилин, но почему-то отказываемся видеть последствия действий постсоветских институтов. И они часто преподносятся как совершенно беспомощные и не способные ничего поменять, хотя они существуют уже на протяжении довольно длительного исторического отрезка.
И раз уж мы общаемся здесь в рамках цикла лекций, организованных Фондом Егора Гайдара, то мне кажется, это обязывает нас задуматься о социологической природе этого самого постсоветского транзита. Этого перехода к либеральной демократии, чего, как мне кажется, до сих пор не делалось. Потому что все время по умолчанию считалось, что в социальном смысле этот транзит не был успешен, что советский человек никуда не делся. А раз он неуспешен, то не стоит его и социологически изучать. Он все равно не случился, значит, изучать надо какие-то структуры, которые проходят через исторические периоды. С моей точки зрения, все обстоит как раз наоборот. Этот транзит как раз был вполне успешным. Просто нужно понять, в чем состояло направление его действия.
На мой взгляд, этот транзит к либеральной демократии может быть описан формулой: либерализм без демократии. Потому что все постсоветское время, начиная с команды Егора Гайдара и далее, по разным причинам, которые можно отдельно обсуждать — часть из них носит совершенно объективный характер, часть — идеологический характер,— гораздо больше внимания уделялось таким вещам, как рыночные реформы, экономическое развитие, стимулирование потребления, формирование богатой элиты. Ну и давайте прямо скажем, что эти усилия были успешны. Они были успешны не сразу, но в целом были. Мы имеем достаточно развитое общество потребления, и это хорошо видно по кредитному поведению россиян. Мы имеем богатую элиту, мы имеем относительно устойчивую рыночную экономику, которая даже не особо накреняется под воздействием местами довольно серьезных санкций. В общем, мы все это имеем.
Но в то же время куда меньше внимания уделялось таким вещам, как местное самоуправление, коллективная самоорганизация, общественные инициативы, инициативы снизу, местная власть, подконтрольность властей, развитие общественно важных профессий вроде той же науки и образования, формирование каких-то профессиональных ассоциаций, которые могли бы защищать или представлять интересы людей, работающих в этих областях. Короче говоря, всему тому, на что обращали внимание Токвиль и Дюркгейм и что можно назвать демократическими компонентами. Что, конечно, существует — может быть, не в самом лучшем состоянии, но тем не менее — в странах Европы и Америки. Вопрос о том, каковы истоки нашей сегодняшней атомизации, как она возникла,— это социологический вопрос, который пока что всерьез не решен. И во многом именно он не дает нам разобраться с нашим прошлым, не идеализируя его, не демонизируя его, но взглянув на него трезво и спокойно.
Если все же попытаться заглянуть вперед, то понятно, что основных позитивных сценариев всего два. Это либо восстановление институтов коллективной жизни и коллективной самоорганизации по первой модели Дюркгейма — то, чего не было сделано, и то, в чем мы существенно отстаем. Либо быстрая, мощная и лавинообразная волна коллективных движений, которые мы уже начинаем видеть, которые действуют скорее по второй модели Дюркгейма и которые будут нас менять быстро и непредсказуемо. Кому что выбирать, кому на что ставить — каждый решает сам. Но понятно, что новый мир отличается от старого тем, что в нем по большому счету нужно иметь и то и другое. Спасибо!
Россияне – большие индивидуалисты, чем европейцы
Ценностная ситуация, сложившаяся в России, тревожна, драматична, но не уникальна. Нет такого особого пути России, который многие ей приписывают (или даже предписывают). Мы в целом подчиняемся общим закономерностям, характерным для сферы ценностей, сферы культуры в странах, близких нам по уровню экономического развития, по недавней политической истории.
Базовые ценности мы понимаем как убеждения человека в значимости для него тех или иных объектов, явлений, состояний как конечных целей жизнедеятельности. Это то, что задает смысл (слово, которое часто звучит в нашей аудитории) действий человека.
Мы опираемся на надежные данные – это международный сравнительный проект «Европейское социальное исследование», уже не первый раунд его проходит в России, и мы располагаем первичной информацией по 32 европейским странам. Тот подход к ценностям, который используется в рамках этого исследования, разработан известным израильским ученым Шаломом Шварцем.
Шварц выделяет целую иерархию показателей, но мы для наглядности остановимся здесь только на двух самых интегральных – их называют «ценностными осями». Один из этих интегральных параметров – это Открытость изменениям – Сохранение (в его состав входят на стороне Открытости такие ценности, как Риск-новизна, Самостоятельность и Гедонизм, а на стороне Сохранения – Безопасность и Конформность – Традиция).
Во втором интегральном параметре на одном полюсе Забота о людях и природе (включающая помощь окружающим, равный подход к людям вне зависимости от их богатства и статуса, толерантность, сохранение природы), на другом, наоборот, Следование личному интересу как стремление к личному успеху, материальному достатку и власти (но, кстати, не очень большое при этом беспокойство о том, чтобы прилагать силы и энергию для достижения этих чудесных вещей).
По оси Забота – Следование личному интересу Россия характеризуется крайне высокой приверженностью ценностям Следования личному интересу. Это значит, что не соборность и коллективизм, о которых без конца говорят и пишут, а ровно наоборот: личный успех, богатство и власть – это те ценности, по которым мы лидируем в Европе.
Итак, у среднего россиянина почти самая высокая в Европе приверженность индивидуалистическим ценностям игры с нулевой суммой. Что касается ценностей альтруизма и солидарности, то места, где они выражены очень сильно, – это Скандинавия и Западная Европа, а вовсе не бывшие социалистические страны. Страны, которые от России статистически значимо не отличаются, – это Украина, Словакия и Турция.
По оси Открытость изменениям – Сохранение картина немножко другая: Россия тоже смещена к одному из полюсов и это полюс более консервативной ориентации на ценности Сохранения, но здесь мы все же в компании с большим числом стран. Не три страны, как в первом случае, а целых 13 имеют примерно те же значения, что и Россия, по оси Открытость изменениям – Сохранение.
Впрочем, наше население моложе европейского и если взять россиян и других европейцев одного и того же возраста, то окажется, что мы, как правило, гораздо более ориентированы на Сохранение, на более консервативные ценности. Эти различия пока компенсируются благоприятной для нас возрастной структурой. Но молодость, будь это недостаток или достоинство, к сожалению, быстро проходит.
К этим результатам можно подходить по-разному. Можно подходить, что называется, политкорректно или этнографически: все ценности и, соответственно, все страны хороши. Мы смотрим на ценностные и культурные особенности России более целенаправленно, стремимся понять, помогают ли они нашему развитию или являются культурными барьерами.
Конечно, мы вряд ли можем быть удовлетворены тем положением, которое Россия занимает на ценностной карте Европы.
Крайне высокие значения ценностей Следования личному интересу (повышенного внимания к личным успехам, личному богатству и власти) угрожают самому существованию общества, даже не гражданского, а просто общества – как системы общей жизни и взаимодействия людей. Понятно, что есть причины, по которым произошел сдвиг в сторону этих ценностей, – обычно все вспоминают в этой связи о переходе России к рынку и капитализму. Но мы же видим, что развитие капитализма отнюдь не препятствует развитию альтруистических ценностей и ценностей солидарности в других странах, например в скандинавских и западноевропейских.
Не очень благоприятно и положение России по оси Открытость – Сохранение, где она, даже с учетом нынешних возрастных преимуществ, отстает от 13 европейских стран по выраженности ценностей Открытости изменениям – готовности к риску, открытости новому, самостоятельности и инициативе. (Характерно, что сюда примыкает и слабое, в сравнении с другими европейцами, стремление россиян наслаждаться жизнью.) И соответственно, Россия опережает эти 13 стран по приверженности консервативным ценностям безопасности, традиций и конформности. Очевидно, что подобная ценностная конфигурация представляет собой культурный барьер, который явно мешает повороту к инновационному развитию в экономике, да и вообще любым социальным переменам.
Подчеркнем, что мы не одни. Не столь большие дистанции отделяют Россию от бывших социалистических стран. Средиземноморские страны сравнительно близки нам – в отличие от стран Северной и Западной Европы. Эта общность должна быть в поле нашего зрения хотя бы потому, что приятнее чувствовать себя обычной, нормальной страной, а не каким-то уникальным средоточием проблем. И кроме того, раз есть какие-то общие проблемы, значит, наверное, существуют и какие-то общие пути их решения.
Важно понимать и то, что российское общество ценностно неоднородно. Причем в России, как и в других постсоциалистических и средиземноморских странах, неоднородность выражена особенно сильно. Есть два широко представленных типа – это два ценностных большинства. Существуют и два ценностных меньшинства.
Большинство, составляющее почти половину (48%) населения страны, – это большинство, ориентированное на ценности Следования личному интересу (на личный успех, материальное благополучие, власть, статус). Второе большинство – это одна треть (33%), оно меньше, но тоже огромная часть людей, и, в отличие от первого, это большинство ориентировано на консервативные ценности Сохранения (безопасность, традиции и конформность).
Но осталось еще почти 20% наших сограждан, которые характеризуются совсем другими ценностями. Ценности этого меньшинства не отражены в средних показателях на ценностной карте, и мы этих людей могли бы вообще не заметить, если бы не обратились к более детальному внутристрановому анализу.
Российское ценностное меньшинство тоже состоит из двух подгрупп. Первая – это 13% россиян, у которых очень сильно выражена приверженность Открытости изменениям, а вторая – о чудо! – это еще 6% каких-то странных людей, у которых очень сильно развиты надличные ценности Заботы о людях и природе (равенства, толерантности, помощи ближним и дальним, сохранения природы).
Если вы посмотрите на то, как представлены четыре описанных выше ценностных типа в других европейских странах, то увидите, что представителям российского меньшинства легче найти близкого по ценностям человека в странах Скандинавии или Западной Европы, чем среди своих соотечественников.
Пусть эти люди – назовем их «нетипичными русскими» – сейчас в меньшинстве, но их не так уж мало: это ведь каждый пятый россиянин. Очень важно, чтобы происходила какая-то самоидентификация этих людей, чтобы они для начала хотя бы узнали, что их достаточно много. (Здесь сразу возникает проблема слова: как им себя именовать? Термин «интеллигенция» вряд ли снова войдет в оборот…)
«Нетипичные русские» могут стать катализатором перемен, ресурсом для развития страны. Но они опора и сегодняшней нашей жизни – все-таки страна как-то держится на плаву и даже начинает критически осознавать свое положение.
Выводы таковы:
1. Россияне в среднем действительно отличаются по своим базовым ценностям от средних представителей других европейских стран, а по некоторым ценностям – от представителей большинства европейских стран.
2. В то же время в ценностной сфере имеется много общего между Россией и другими европейскими странами (это важно подчеркнуть, поскольку об общности обычно не говорят), и особенно со странами, близкими нам по уровню экономического развития и по недавней политической истории. Несмотря на значительные ценностные различия между Россией и наиболее развитыми европейскими странами, примерно 20% россиян легче найти близкого по ценностям человека в странах Скандинавии или Западной Европы, чем среди своих соотечественников.
3. Ценностные характеристики, присущие российскому ценностному большинству, безусловно, являются одним из культурных барьеров на пути модернизации. При этом влиятельные группы элиты через подконтрольные СМИ культивируют представление о неподатливости этих характеристик изменениям как элементов устойчивой «культурной матрицы», «культурного генотипа», «российского архетипа», «менталитета» и т. п. Подобная трактовка культуры, противоречащая большому массиву фактов культурных изменений, оправдывает институциональную отсталость нашей общественно-политической и экономической жизни и маскирует те огромные усилия, которые упомянутые группы элиты тратят-таки на формирование ценностей, но ценностей консервативных и потребительских, поддерживающих массовую пассивность и покорность и обеспечивающих этим группам комфортное существование.
Характерно, что Институт культурных преобразований существует в американском Университете Тафта, а, к сожалению, не в Московском или Пермском государственном университете.
4. В дополнение к тем ценностным изменениям, которые происходят просто в результате улучшения общих условий жизни людей, необходимы и целенаправленные усилия по воспитанию российского общества в духе ценностей Открытости изменениям и Заботы о людях и природе.
Авторы – заведующий сектором исследований личности Института социологии РАН, ведущий научный сотрудник Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»; научный сотрудник Института социологии РАН и Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
«Крайне неприятный тип» Советский человек изменился. И стал еще хуже: Общество: Россия: Lenta.ru
Кто мы — индивидуалисты или коллективисты? Этому вопросу была посвящена лекция профессора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Григория Юдина, организованная Фондом Егора Гайдара. В самом деле, вроде бы в СССР человека воспитывали, призывая ставить коллектив превыше всего. Откуда же взялась та атомизация общества, которую мы видим сейчас, если многие специалисты считают, что «советский человек» никуда не исчез и продолжает самовоспроизводиться? «Лента.ру» публикует выдержки из лекции Григория Юдина.
Индивидуалисты мы или коллективисты? Все знают фрагмент из фильма «Бриллиантовая рука», когда управдом говорит о главном герое: «Наши люди в булочную на такси не ездят». Уверен, что многим он приходит в голову, когда речь идет о таком «исконном» коллективизме, который торжествует в России. Что мы в нем видим? Что вызывает наибольшее раздражение? Во-первых, это, пожалуй, уравниловка в плане стиля жизни и потребительских стандартов. Есть кто-то, кто говорит от лица коллектива, запрещая человеку иметь собственный потребительский стандарт. Он немедленно маркируется как «не наш» и вызывает отторжение.
Еще одна вещь — это зависть к чужим успехам, потому что речь идет не только о том, что этот человек другой, а о том, что он, вероятно, имеет больший доход, возможности (мы знаем, что в фильме на самом деле все это не так, но тем не менее это вызывает именно такую реакцию). Предполагается, что если ты экономически успешен, то это немедленно исключает тебя из нашего круга. Наконец, мы здесь видим достаточно жесткий контроль, слежку, которая осуществляется от лица коллектива с реальной угрозой создать человеку проблему. Мы понимаем, что эта дама не шутит. Она [управдом] действительно может создать ему [герою] некоторое количество трудностей.
Все это является наилучшим выражением представления о том, что такое коллективизм, существовавший и, видимо, продолжающий существовать в нашей стране по сей день. Впрочем, обращу ваше внимание, что фильм снят в 1969 году, и все это в нем показано во вполне ироничном ключе.
Лев Гудков
Фото: Максим Кимерлинг / «Коммерсантъ»
Идея о том, что из советского времени неотступно идет этот советский коллективизм, высказывается очень часто вполне серьезными исследователями. Самая известная формулировка была предложена Юрием Левадой и развивается до сих пор его главным учеником Львом Гудковым. Это идея «простого советского человека». «Простой советский человек» — так называлось исследование, которое группа Левады начала еще в 80-е годы, оно тянулось очень долго, и на его основаниях строились масштабные антропологические обобщения, касающиеся природы человека в целом.
Я буду опираться на то, как эту теорию излагает Гудков, — сразу скажу, что я ее буду упрощать, так как она достаточно сложная и противоречивая, но я подсвечу в ней то, что обычно хорошо понимает широкая аудитория. Он говорит, что одна из ключевых характеристик «простого советского человека» — это социальный инфантилизм, патернализм и принятие произвола начальства. То есть неверие в собственные силы, индивидуальный потенциал, беспрекословное принятие власти, данной сверху, и надежда на эту власть.
Вторая — это уравнительные установки, склонность к тому, чтобы, независимо от того, о каком ресурсе идет речь, уравнивать и относиться к неравенству с подозрением, неприятием и завистью. Зависть плавно перетекает в третью черту, то, что Гудков называет комплексом неполноценности — ущемленность, зависть, стремление не развиваться самому, а, скорее, тормозить окружающих, держать их на своем уровне и не давать им вырваться вперед. Если мы посмотрим на эти три черты, то это примерно то, что мы обнаружили только что в героине Нонны Мордюковой, то, что нас больше всего раздражает. В этом смысле ее персонаж — это как раз тот самый «идеальный» простой советский человек.
Гудков так прямо и называет советского человека — коллективный человек. Для него характерно групповое принуждение, коллективное заложничество, конформистское единомыслие, общность фобий и предрассудков. Крайне неприятный тип, судя по этому описанию!
На самом деле, это не просто описание, а довольно мощная теория в смысле своей объяснительной широты. Она предполагает, что этот самый советский человек не просто существует как некий средний тип, а он способен к самовоспроизводству. Хуже всего, он это делает уже в условиях изменившихся институтов и социальных структур, извращая их. Грубо говоря, когда ему предлагаешь какие-то новые институты, он сам внутри не меняется и использует их так, как ему удобно, привычно.
Это более-менее стандартное описание провала институциональных реформ, потому что люди, их проводящие, обычно надеются, что если институты поменяются, то изменится и человеческая мотивация. Но нет, как говорит нам этот подход, все они наталкиваются, как на каменную стену, на этого простого советского человека, который все видит по-своему, который настроен на самовоспроизводство и с которым, по большому счету, ничего поделать невозможно. Именно поэтому он оказывается несовместим с институциональными реформами, проводившимися в России в начале 90-х годов. Он несовместим с рыночной экономикой, либеральной демократией, уважением прав человека, поскольку все это предполагает гораздо большую степень индивидуализма. Современное же общество с точки зрения этого подхода принципиально держится на индивидуальных достижениях, а значит, когда мы имеем дело с «простым советским человеком», он сопротивляется не просто всем этим атрибутам, но истории, времени. Он навечно застрял в прошлом.
Конечно, в этой теории есть некоторая непоследовательность. Предполагается, что советского человека сформировали советские структуры, идеология и институты. В то же время предполагается, что, когда он сформирован, новые институты, структуры и идеология не способны оказать на него никакого воздействия, они от него отлетают, как пульки от железного истукана. То есть, когда он формируется, то достаточно пластичен, а когда мы имеем дело с новой институциональной системой, она с ним уже не может ничего сделать, потому что он затвердел и резистентен.
Фото: Всеволод Тарасевич / РИА Новости
На это затруднение есть еще более радикальный ответ. Он состоит в том, что коллективист растет вовсе не из советского опыта, но из куда более ранней истории — из русской общины, из небольшого узкого мира, подавляющего человеческую индивидуальность. С тех пор он никуда и не делся — меняется только внешнее обрамление, но этот общинный русский человек XVIII-XIX веков (а может и более раннего времени) является исторической константой, проходящей сквозь всю историю, и у нас нет никакого шанса от нее отделаться. Иногда это называют «теорией колеи» — предполагается, что мы попали в некую антропологическую колею, и дальше уже ничего измениться не может, разве что придется людей полностью поменять, этих выселить и набрать откуда-нибудь других. Но сделать это сложно, поэтому, увы, перспектива невеселая.
В общем, все выглядит так, будто мы застряли в этом самом коллективизме, когда мир движется к индивидуализму, и мы движемся по дороге, которую нам преграждает этот франкенштейн — «простой советский человек». При этом страшно, что это не он стоит на ней, такой большой и страшный, а это мы и есть, и чтобы что-нибудь с этим сделать, нам бы пришлось тянуть себя из болота за волосы. Такой подход обычно приводит к глубоко пессимистическим взглядам, предсказаниям и пониманию перспектив. Ведь раз все это представляет собой такую антропологическую константу, по-видимому, сделать с ней ничего невозможно.
Может быть, стоит обратиться к социологии и спросить у нее, как выбраться из этой ловушки? Как избавиться от бремени коллективизма и развить в себе недостающий индивидуализм?
Социология всегда возвращает к своим истокам, классикам.
И вот перед социологией с самого ее начала предстают два основных вопроса: о порядке и о прогрессе. Или, по-другому: как обеспечить порядок в условиях распада традиционного проекта, в условиях освобождения человека, эмансипации, расцвета человеческой индивидуальности, чтобы прогресс не остановился.
Эмиль Дюркгейм
Вопрос об отношении между социальным и коллективным является центральным для всех основоположников социологии. Наиболее отчетливо он был поставлен Эмилем Дюркгеймом. Он понял, что главный цивилизационный вызов заключается в том, как совместить друг с другом индивидуальное освобождение человека с одной стороны и коллективную жизнь с другой. Понятно, что если индивидуализация ничем не сдерживается, достигает своих пределов, то людей уже ничего не держит вместе, и мы получаем неограниченную конкуренцию, которая, в конечном счете, вырождается в войну. В ней уже нет никаких правил, которые могли бы нас сдержать, где мы чувствуем себя враждебно расположенными по отношению ко всем вокруг и ощущаем необходимость отвоевывать некие ресурсы.
С другой стороны, остановить индивидуализацию значит остановить прогресс, и Дюркгейм это понимал очень хорошо. Такие точки зрения тоже существовали, желающих вернуться в традиционное общество было вполне достаточно. Но именно Дюркгейм полагал, что это значит обречь человека на несвободу, запереть его в душные традиционные структуры, а значит, и остановить общественный прогресс.
Дюркгейм предложил две модели сочетания индивидуального и коллективного. Первая модель предполагает, что коллективная и индивидуальная жизнь существуют одновременно. Они синтезируются в то, что он называет «органической солидарностью». Солидарность — это то, что держит общество вместе, и при этом каждый человек занимает в этой системе солидарности свое место. Это похоже на функционирование организма: у каждого из нас есть свое четко определенное место, которое мы занимаем в этом большом общественном организме. Поэтому Дюркгейм уделял большое внимание профессии, поскольку она определяется тем, какую ценность она представляет для общества. Любой профессионал — медик, ученый, кто угодно — движим желанием быть полезным для общества в целом.
Органическая солидарность как раз предполагает, что развитие каждого индивидуума как элемента этого общественного тела способствует социальному прогрессу, так как приносит ему пользу. Именно поэтому эти индивидуумы получают престиж, делая то, что нужно всем, — ведь если бы они делали что-то бесполезное, мы вряд ли стали их уважать. Их индивидуальное творчество получает таким образом достойную оценку. Иными словами, чтобы индивидуальные достижения ценились, как это ни странно, должен существовать некий коллективный консенсус по этому поводу. Мы, как коллектив, должны быть уверены в том, что мы ценим определенные индивидуальные достижения. Если же его нет, то каждый начинает уважать собственный успех, испытывая к окружающим в первую очередь подозрение и зависть. Дюркгейм даже говорит, что в современном социуме, обществе с органической солидарностью, должен укрепиться так называемый культ индивида. Мы, как коллектив, должны верить в ценность человеческой индивидуальности.
Вторая модель дает совсем другой ответ. В 1912 году Дюркгейм начинает предполагать, что коллективная и индивидуальная жизнь не могут существовать одновременно, они чередуются во времени. Это значит, что основную часть времени мы живем своей обычной частной жизнью и ни в какую коллективную не вовлечены. Но время от времени возникают какие-то коллективные события, возбуждающие у нас то, что он называл «коллективными эмоциями». Они увлекают нас, и благодаря им мы осознаем себя частью коллектива. Иными словами, социальный порядок поддерживается этими моментами интенсивной коллективной жизни — по его словам, «бурлением коллективных чувств». Они потихонечку ослабевают, но мы все же продолжаем испытывать их в себе.
Для Дюркгейма таким типичным примером точки бурления этих коллективных чувств являются праздники — причем, значимые для коллектива праздники. Не такие, во время которых мы не знаем, чего делать (скажем, собраться на даче 4 ноября), а такие, где мы празднуем вместе, вырываемся из привычного состояния, способны переходить какие-то привычные границы и так далее. Например, это корпоратив или 9 мая, когда мы что-то делаем совместно, а не просто расходимся по своим домам, потому что у нас просто появился лишний выходной. С точки зрения Дюркгейма, это оставляет длительный след, который постепенно стихает, но некоторое время держит нас вместе, а потом происходит переактуализация, и за счет этого общество продолжает существовать.
Именно в эти моменты в нас как бы закрепляется понимание того, во что мы верим, ради чего мы живем, ради чего стоит жить, какие-то глубокие убеждения, ради которых мы потом готовы действовать. Какие-то такие запоминающиеся для нас моменты, когда с нами что-то происходит, когда мы претерпеваем некоторую трансформацию и усваиваем глубокие верования и убеждения, которые нами в дальнейшем руководят.
Обратите внимание, что в обеих моделях необходимо, чтобы оба слоя были крепкими — как коллективный, так и индивидуальный. Эти модели просто различаются тем, как они функционируют. Можно по-разному мыслить себе их соотношение, но оба слоя необходимы. Первая модель Дюркгейма лучше описывает либеральные демократии — такими, как они формировались в XIX веке. В них либеральный компонент, ответственный за свободу и развитие, сочетается с компонентом демократическим, ответственным за коллективное самоуправление и установление условий для индивидуального развития, коллективную заботу о том, чтобы каждый из нас мог развиваться как личность.
Это хорошо можно проиллюстрировать изданной чуть ранее книгой Алексиса де Токвиля «Демократия в Америке», ставшей хрестоматией либерально-демократического порядка, в подробностях показывающей, как происходит синтез двух этих элементов. С одной стороны, есть элемент либеральный — Токвиль пишет, что нет такой страны, в которой любовь к собственности была бы так сильна, как в США. С другой стороны, он постоянно подчеркивает — кстати, не без некоторого опасения, — что для американцев свойственна совершенно невероятная страсть к тому, чтобы решать все вопросы на собраниях (то, что по-английски называется town hall meetings). Именно на них и вырабатывается та самая солидарность, благодаря которой ценят индивидуальную свободу и достижения, индивидуальный вклад в общественное благо, индивидуальный успех.
Алексис де Токвиль
Уважение к правам человека возникает из коллективной борьбы за эти права, оно не появляется просто так, не сваливается с неба. Только в этом случае права другого могут оказаться важны для меня — если они коллективно завоеваны, если они значимы для всех нас. Твои права почему-то должны быть важны для меня, и для этого между нами должно быть что-то общее, нам должно быть не все равно. Поэтому Токвиль говорит, что для свободы (то есть либерального компонента) публичные собрания — это то же самое, что школы для науки, фундамент, без которого нельзя.
Вторая же модель Дюркгейма гораздо больше соответствует сегодняшнему дню, когда устойчивые либеральные структуры либеральных демократий становятся все слабее. Люди все меньше участвуют в общественной жизни, ослабевают профессиональные ассоциации — практически везде они замещаются менеджерами, администраторами, которые получают все больше власти. И вообще, люди все меньше проводят время вместе.
Американский политический ученый Роберт Паттон написал известную книгу с красноречивым заголовком «Боулинг в одиночку». Боулинг имел очень важную роль в солидаризации американцев, поскольку они после решения каких-то коллективных вопросов ходили вместе играть в него. А по данным исследований видно, что все больше народу ходит в боулинг сами по себе (на мой взгляд, достаточно странное занятие, но тем не менее).
Мы видим, что даже коммуникация сейчас все чаще осуществляется через социальные сети, так, что можно подолгу не видеть людей, с которыми мы на самом деле находимся в интимной коммуникации. Это имеет довольно интересные последствия. У людей возникает все больше потенциала для спонтанных, но достаточно лавинообразных мобилизаций. За примерами ходить далеко не надо, их есть очень много даже в последние годы.
Несколько наиболее известных движений берут свое начало в Америке, и все они распространились за ее пределы. Они не похожи на привычные формы коллективных объединений. Они почти никогда не заканчиваются созданием формальных ассоциаций, партий или еще каких-нибудь привычных структур. У них есть какие-то устремления, убеждения, цели, которые они преследуют, но они это делают совершенно иными способами. Раньше любая цель такого рода могла решаться созданием хотя бы более-менее институционализированной структуры, в которой есть ответственные лица, на которую можно работать, которая что-нибудь требует, работает организованно, с правилами членства. Не обязательно иметь его — просто у тебя есть четкое место относительно этой структуры.
Сегодня это уже не так. Мы видим, что все эти движения действуют практически без какой-либо структуры. У них есть какие-то лидеры, но они либо случайные, либо быстро меняются и на следующий день мы про них забываем. И понятно, что дело не в лидерах и не в структурах. Они и координируют сами себя, и понимают сами себя лучше, чем их лидеры, и совершенно по-другому устроены. Они ураганом проносятся по современному обществу и вызывают у людей сильное чувство причастности к некоему коллективному движению. Они могут достигать или не достигать своих целей, но независимо от этого, они так или иначе затухают, исчезают или, может быть, трансформируются в какое-то следующее движение.
Мы наблюдаем сходные феномены и в России. Часть их приходит к нам из-за границы — и это, кстати, еще один очень важный новый элемент, о котором раньше говорили очень мало. Это заражение одних обществ другими. Раньше казалось, что общество с его проблемами — это такой контейнер, относительно изолированный от окружающих. Поэтому в рамках первой модели Дюркгейма о таком «заражении» помыслить было нельзя. Сегодня мы видим, что они перекатываются, словно волны, через границы и подхватываются, модифицируются, меняются в других социокультурных контекстах.
Здесь можно вспомнить не только об этих движениях, но и о тех, которые являются в некоторой степени нашими собственными, как, например, протестное движение в 2017 году, о котором пока никто толком не знает, что это было. Они тоже носили волновой спонтанный характер. Не было никакой специальной организации — ее пытаются построить, и, может быть, эти попытки будут успешными, но это скорее напоминало резкую внезапную мобилизацию, которую сложно долго поддерживать на одном уровне.
Опять же, тут есть такой странный элемент «инфицирования». Мы с коллегами из издания Republic делали материал, в котором видно, что лозунги, графическое оформление и стилистика протестных движений в разных странах с самыми разными целями (иногда даже с противоположными) удивительно сильно похожи друг на друга. Здесь явно происходит неосознанное «заражение».
Так что можно сказать, что мир сегодня плавно переходит от первой модели Дюркгейма ко второй. Заметьте, не от коллективизма к индивидуализму, а, скорее, от стабильной коллективности к коллективности текучей, спонтанной и мобилизующей. И этот переход, конечно, происходит непросто. Именно с его ускорением связано большое количество тревог, которые мы испытываем по поводу того, что происходит в мировой политике, какие изменения претерпевает сложившийся международный порядок и вообще, что будет завтра.
Где во всей этой большой тенденции находится Россия? Если взглянуть на данные международных исследований, то мы увидим, что для россиян характерна индивидуалистическая ориентация.
Фото: Александр Петросян / «Коммерсантъ»
В своей работе ведущие исследователи ценностей Владимир Магун и Максим Руднев используют данные опроса European Social Survey. Такие опросы позволяют на протяжении долгого времени мониторить динамику ценностей в разных странах. По поводу самого понятия ценностей можно долго спорить, я не большой его поклонник, но Магун и Руднев строят модель, которая позволяет на основании нескольких вопросов категоризировать общие ориентации людей. Они их делят на сильную индивидуалистическую ориентацию, слабую индивидуалистическую, слабую социальную, сильную социальную и то, что они называют «ценностями роста».
О ценностях роста у нас большого разговора не будет, зато по их данным можно видеть, как велика в России доля людей с сильной и слабой индивидуалистической ориентацией. Они сравнивают эти показатели с Северной, Западной, Средиземной и постсоциалистической Европой, и наша страна оказывается выше по всем раскладам. Если смотреть на какие-то конкретные страны, то если у нас сильная индивидуалистическая ориентация присуща 26 процентам населения, то в Германии — 14, в Польше — 13, в Бельгии — 11. Если брать сумму двух первых категорий (таких людей в России больше половины), то где-то близко находится Испания (45 процентов), Швеция (34) и Германия (26). В основном, конечно, все находятся ниже нас. Причем, со временем сумма этих категорий потихонечку увеличивается.
Другой ключевой показатель — это межличностное доверие, которое никогда не бывает низким там, где сильны коллективные чувства. Это, кстати, любимый показатель Паттона с его боулингом, которого я упомянул. Снижение интереса к коллективному времяпровождению он напрямую связывает с падением уровня межличностного доверия в Америке. И действительно, по данным Европейского социального исследования можно сказать, что мы здесь очень похожи на США, причем, если сравнивать, то ситуация в России с этим показателем еще хуже, чем в Америке.
В России по сравнению с Францией, Финляндией и Швецией самый высокий показатель недоверия. На вопрос «Людям можно доверять или даже излишняя осторожность в отношениях с людьми не помешает?» (по-английски он звучит более элегантно: People can be trusted, а второй вариант — You cannot be too careful, на русский это не очень хорошо переводится, но смысл второго варианта понятен: людям можно доверять очень редко) люди легче всего говорят: «Да что вы, людям, конечно, нельзя доверять! Что за безумие?» И достаточно редко говорят: «Да, в целом людям можно доверять». Это, впрочем, не только наша проблема — во Франции второй показатель тоже достаточно низкий. Понятно, что в условиях низкого уровня межличностного доверия люди заботятся исключительно о собственных интересах, потому что заботиться о коллективных в этой ситуации нет никакого смысла, если ты никому не доверяешь.
Если взглянуть на дело с точки зрения политической науки, то можно сказать, что ключевой особенностью россиян сегодня является категорическое неверие в возможность коллективного действия. Поэтому так и затруднена политическая организация. Есть один показатель, который хорошо это иллюстрирует, — вопрос о том, насколько люди способны принимать активное участие в работе какой-либо группы, занимающейся политическими проблемами. Он тестирует готовность индивидуума работать в коллективе, над коллективной целью. В этом смысле Россия просто рекордсмен — в категорию «совсем не способен» скатываются аж 49 процентов. Еще раз: не только у нас проблемы, но в этой области такие масштабные, пожалуй, только у нас.
Еще один хороший индикатор, о котором я упоминал во введении, это уровень неравенства, потому что в более коллективистских условиях к неравенству обычно относятся плохо. Его стараются контролировать, и там, где сильна солидарность, людям тяжело дается понимание, что у кого-то рядом с тобой нет совсем ничего, когда у тебя есть все, и, наоборот, люди очень болезненно принимают то, когда у них нет совсем ничего, в условиях, когда у кого-то — гораздо больше. Причем здесь важен не абсолютный показатель, а относительный — сама ситуация, когда у кого-то существенно больше, чем у окружающих, буквально разламывает общество на составляющие, поэтому о солидарности здесь говорить невозможно.
Известный факт заключается в том, что в последние годы неравенство в мире вообще растет, и исключений из этой тенденции практически нет, но в странах с высокой солидарностью оно несколько пониже. Россия же на этом фоне является одним из мировых лидеров. Исследования Филиппа Новокмета, Тома Пикетти и Габриэля Цукмана показывают, что доля дохода, которым владеют 10 процентов населения россиян, находится на уровне 45 процентов. Этот показатель очень похож на США, где очень высокий уровень неравенства, существенней, чем во Франции, в которой, как мы могли видеть, имеются сходные с нашими проблемы.
Если мы увеличим эту картинку и уйдем внутрь этих 10 процентов, то увидим, что если взять 1 процент самых богатых россиян, то они владеют 20 процентами всего дохода. А если пересчитать это в богатство, то цифра будет еще более впечатляющей: 77 процентов для 10 процентов населения и 56 процентов для одного процента населения. Если же взять из этого одного процента только миллиардеров, то они владеют 30 процентами всего богатства — буквально несколько человек. Мы все знаем список, в котором можно найти эти фамилии.
Следующий интересный индикатор — это религиозность. В России сейчас происходят интересные процессы в области религии, и кто-то даже рискует это называть религиозным возрождением — вроде как все больше и больше становится людей, которые хотят ассоциировать себя с православием. Но исследователи религии — в особенности исследователи православия — гораздо более сдержаны в оценках. Они видят пока что только увеличение разрыва между тем, что называется декларируемой религиозностью и реальной.
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости
Декларируемая — это когда к вам подходят и спрашивают: вы считаете себя верующим человеком? Вы отвечаете: да, конечно! Эти показатели растут, особенно среди православных. Все больше людей говорит: да, я православный. Причем, если вы конструируете дополнительные шкалы, спрашиваете, мол, насколько сильно вы верите, вам отвечают: да, страшно верую!
Дальше посмотрим на вопросы, по которым можно оценить реальную религиозность. Коллеги в Свято-Тихоновском университете используют для этого три показателя: регулярное посещение храма, регулярное причастие и регулярная исповедь. Это не то что требует особых усилий, но показывает, что ты принадлежишь к церковной жизни. И тут показатель существенно падает. Вот эти люди действительно представляют собой церковных — вовсе не обязательно воцерковленных! — людей, которые живут некоторой церковной жизнью. И вы увидите, какой разрыв. Пока что это «возрождение» заканчивается тем, что он увеличивается. Нельзя сказать, что показатель реально религиозных стоит на месте, он подрастает, но разрыв растет быстро.
На этом фоне мы видим интересные параллельные тенденции. Это высокий потенциал ситуативной коллективной религиозности. Такие ситуации повторяются из года в год. Если бы это один раз произошло — какие-то мощи привезли в храм и там бы была большая очередь, сочли бы что да, важную реликвию привезли. Но это происходит из раза в раз, и по самым разным поводам, и становится ясно, что не особо даже важно, что туда привозят. Люди получают некий важный опыт, находясь в таком коллективном действии. Многие из них приезжают из регионов, вырываются из своей повседневной жизни и получают свой коллективный опыт пребывания здесь.
Причем очень многие из тех, кто стоят в таких очередях, относятся именно к категории декларируемой религиозности. Коллеги провели исследования в очередях в храмы на Пасху и увидели в них те же самые соотношения. А там, вроде бы, должны стоять люди глубоко верующие, которые пришли совершить некий важный церковный обряд.
Итак, если мы возвращаемся к терминам Дюркгейма, это скорее коллективность второго типа, чем первого. С первым как-то не очень все гладко, а второй очень быстро набирает обороты, особенно в течение последних нескольких лет. Мы видим, что появилась целая волна такого рода мобилизаций, и мы знаем, что они имеют политические последствия и потенциал.
Давайте сделаем некоторые промежуточные выводы. Во-первых, согласно этим данным, довольно очевидно, что для России характерен провал коллективной жизни. То есть слабость коллективной организации и проблемы нарушения договоренностей (ни с кем ни о чем невозможно договориться, потому что нет межличностного доверия).
Самое важное, что нужно иметь в виду, это то, что мы имеем дело с дисбалансом коллективного и индивидуального. В этом самая главная проблема, с тем, что недостаток коллективной жизни создает очень серьезный дисбаланс, приводящий к тому, что индивидуализм превращается в атомизацию. Это ситуация, при которой высокий индивидуализм из-за отсутствия компенсации в виде базы коллективной жизни приобретает форму агрессивной конкуренции, зависти и, кроме того, усиления центральной власти. Это симптомы общества, в котором каждый сам за себя, каждый сидит в своей конуре, и понятно, что таким обществом проще всего управлять — теми, между кем нет солидарности. Центральная власть часто пользуется этим, а иногда и провоцирует размежевание, атомизацию и превращение индивидуализма в раздробленность.
Фото: Zuma / ТАСС
Все знакомые нам образцы зависти и наступления на права личности, подавления индивидуальной свободы — это результат отсутствия баланса между коллективным и индивидуальным. Индивидуальный успех в России по-настоящему очень даже ценится. В качестве нормативных примеров, которые нам дают по телевизору, мы видим вовсе не альтруистов. Нам все время предъявляют примеры индивидуального успеха, на которые нужно ориентироваться. Другое дело, чужой успех не воспринимается как легитимный, не признается. Мы не даем права другому на успех.
Это уже симптом отсутствия у нас коллективной базы, которая бы позволяла его признавать. Если вернуться к началу, то героиня Нонны Мордюковой, это, конечно, не иллюстрация тирании коллектива над индивидом. Это пример выхолощенности коллективной жизни, пустой зависти тетки-управдома, которая в страхе оказаться проигравшей изображает давление со стороны коллектива, пользуясь своей властной позицией.
Почему же так получилось? «Бриллиантовая рука» дает первый намек на ответ на этот вопрос: по мере ослабевания и завершения советского проекта коллективная жизнь вырождалась и превращалась в пустую маску. То, что называлось коллективом, и то, что сегодня, по понятным причинам, вызывает отвращение у многих людей, конечно, не имело обычно никакого отношения ни к солидарности, ни к общему благу. Это был просто инструмент для отправления административной власти в условиях жестко централизованного государства. А для отдельных людей это был еще и инструмент для достаточно злой конкуренции с окружающими.
Илья Будрайтскис сделал очень интересное наблюдение: начиная с поздних 70-х годов в советском кино повально распространяется сюжет о героях-следователях, борющихся с экономическими преступлениями. Напомню, что вся «Бриллиантовая рука» — это история про жуликов, с которыми борется Семен Семенович Горбунков, поддерживая тем самым доблестную советскую милицию. Да, это комедия, но позже этот сюжет начинает появляться раз за разом в кино. Будрайтскис говорит, что в этом заключается молчаливое признание всего советского общества самому себе в том, что внутрь его давно проник этот своекорыстный антисоциальный бизнесмен-индивидуалист. Спекулянт — он уже внутри, он разъедает советское общество.
Алексей Юрчак в уже известной и очень хорошей книге «Это было навсегда, пока не кончилось» пишет, что для позднесоветского периода одной из самых успешных стратегий было бегство от этой пластилиновой коллективной жизни и от навязывающего ее государства. Бегства в те самые кружки, группы, где можно было найти какую-то общность смыслов.
Но, если говорить о мифах, из этого мифа о советском коллективизме мы очень мало знаем о том, как было выстроено соотношение коллективной и индивидуальной жизни в разные периоды СССР. Главная задача социологии для советского общества по большому счету не решена. Социология тогда, понятное дело, была невозможна, поэтому это надо делать сегодня, чтобы понять, откуда мы происходим.
Сейчас же с нами происходит удивительная, на мой взгляд, вещь: мы, с одной стороны, в голос смеемся и презираем советскую пропаганду, но почему-то странным образом продолжаем верить в то, что она пыталась нам внушить. В триумф сильного и самостоятельного коллектива в СССР, несмотря на то что пропаганда сама, похоже, не особо в это верила. Сходная ситуация имеет место и в постсоветском периоде. Мы верим в то, что советские институты могли сформировать определенные типы мотивации, определенный тип ориентации человека, но почему-то отказываемся верить в то, что постсоветские институты способны сделать то же самое.
Мне кажется, мы должны задуматься о социологической природе этого постсоветского транзита, перехода к либеральной демократии. Чего, по-моему, до сих пор не делалось — по умолчанию считалось, что транзит был неуспешен, советский человек никуда не делся, а раз так, то не стоит его изучать с точки зрения социологии. Мне кажется, что все как раз наоборот. Этот транзит был вполне успешным, просто нужно понять, в чем состояло направление его действий.
Фото: Алексей Смагин / «Коммерсантъ»
На мой взгляд, он может быть описан формулой «либерализм без демократии». Все постсоветское время, начиная с команды Егора Гайдара, по разным причинам гораздо большее внимание уделялось таким вещам, как рыночные реформы, экономическое развитие, стимуляция потребления, формирование богатой элиты… Давайте прямо скажем, что эти усилия в целом увенчались успехом! Мы видим достаточно развитое общество потребления, что можно наблюдать по кредитному поведению россиян. Мы имеем богатую элиту и относительно устойчивую рыночную экономику, которая даже не особо накреняется под воздействием достаточно серьезных санкций.
В то же время, куда меньше внимания уделялось таким вещам, как местное самоуправление, коллективная самоорганизация, общественные инициативы, инициативы снизу, местная власть, подконтрольность властей, развитие общественно важных областей (той же науки и образования), формирование профессиональных ассоциаций, защищающих или представляющих интересы людей… Короче говоря, всему тому, на что обращали внимание Токвиль и Дюркгейм, тому, что можно назвать демографическими компонентами и тому, что существует (может и не в самом лучшем состоянии) в странах Европы и Америки.
Вопрос о том, каковы истоки нашей сегодняшней атомизации, во многом пока не решен. И он не дает нам разобраться с нашим прошлым, не идеализируя и не демонизируя его, но взглянув на него трезво и спокойно. Если попытаться заглянуть вперед, то становится понятно, что основных позитивных сценариев всего два — либо восстановление институтов коллективной жизни и самоорганизации по первой модели Дюркгейма, либо быстрая, мощная, лавинообразная волна коллективных движений, которую мы уже начинаем видеть, действующая скорее по второй модели Дюркгейма. Она будет менять нас быстро и непредсказуемо. Кому что выбирать, кому на что ставить, каждый решает сам. Но понятно, что новый мир отличается от старого тем, что в нем надо уметь и то, и другое.
Меня притягивают независимость и индивидуализм
Имя Анны Лебсак-Клейманс, генерального директора Fashion Consulting Group, чаще звучит в прессе, когда речь идет о крупнейших деловых фэшн-форумах. Но в этот раз FashionUnited пообщался с модным экспертом не о марже и стратегиях развития брендов, а о личном. Буэнос-Айрес, Ньй-Йорк и Москва – список любимых городов и не только в интервью FU.
Ваши любимые бренды одежды.
Действительно любимые бренды — это любимые дизайнеры: лаконичный конструктивизм — Васса (бренд VASSA), романтично-интеллектуальное — от Виктории Андрияновой (Victoria A), футуристическая готика от Дмитрия Логинова (ARSENICUM), чеканные формы силуэта от Сергея Теплова (SEGUEI TEPLOV), инновативный трикотаж Людмилы Норсоян (КУССО), буржуазные пальто от Валентины Прониной (BSBY). Это не просто бренды, а любимые вещи-друзья, за многими из них история — память о приятном вечере, теплой встрече, стильном показе или сьемках. Они, действительно, любимые. А вообще мой обширный гардероб — это wikipedia дизайнерских брендов от A до Z со всего мира.
Ваш самый любимый предмет гардероба.
Это драповые пальто, кожаные сапоги и солнечные очки. И серебряные свидетели протестной юности: кольца, браслеты.
Ваш стиль в одежде.
Одежда — это просто упаковка для моего настроения. И отчасти инструмент собственной дисциплины: чем труднее день, тем тяжелее латы.
Если обувь, то
никогда случайная.
Ваш любимый город. Почему он?
Москва — родина, Нью-Йорк — стиль жизни, Буэнос-Айрес — гедонизм.
Ваш самый любимый магазин одежды/универмаг/торговый центр. Что Вас в нем притягивает?
Универмаги — только как место самообразования для работы, но не шопинга для себя. Люблю маленькие авторские бутики в исторических районах. Например, Palermo Soho в Буэнос- Айресе. Меня притягивают непредсказуемость, независимость и индивидуализм.
Ваш любимый журнал/интернет-ресурс о моде.
Системно — деловые сайты: wwd.com и fashionunited.ru. Гид по стилю fashionsnoops.com, по социальным событиям и тусовкам — разные, по настроению.
Ваша любимая цитата о моде.
Предсмертная фраза Оскара Уайльда в захудалой провинциальной гостинице: «Или я, или эти мерзкие обои в цветочек».
Как начиналась Ваша карьера в моде/ритейле? Ваше первое место работы.
Моя карьера началась в крупном рекламном агентстве «Премьер СВ» в девяностых годах. Проработав там год, я выступила с инициативой создания специального подразделения, специализирующегося на модных брендах, которые тогда только начали приходить в Россию. Так появилось агентство «VALS», которое было совместным бизнесом самого крупного тогда рекламного агентства и Ассоциации высокой моды, которая в то время привозила в Россию крупные мировые бренды. А я стала его руководителем. Клиентами были первые бутики Кузнецкого моста, такие как Versace, Ferre. Во многом события моей жизни определяли и определяют люди — наставники, партнеры, соратники. На том этапе жизни я познакомилась в США с Артуром Уинтерсом (Arthur Winters), авторитетнейшим мировым экспертом в сфере модного бизнеса, в 50-х годах открывшим первый факультет маркетинга моды в США, в Нью-Йорке. Этот удивительный легендарный человек подарил мне ключи к пониманию механизмов индустрии моды, помог определить мой профессиональный вектор. Так в 2000 году мы открыли образовательный центр «Менеджмент и коммуникации в индустрии моды» в ГУ ВШЭ, программы которого на данный момент закончили уже более двух тысяч человек. А некая новаторская идея воплотилась в прочную реальность — компанию Fashion Consulting Group, которая за 15 лет работы превратилась в спокойного и уверенного «технолога» модного бизнеса. Обязательно хочу сказать, что ничего не случилось бы, если бы с первого дня моим партнером во всех начинаниях не была бы моя замечательная подруга Ануш Гаспарян.
Какой отпечаток накладывает работа в фэшн на Вашу повседневную жизнь? В чем этот опыт помогает или, может быть, наоборот, в чем-то мешает
Однозначно помогает. Моя повседневность наполнена красотой: красивыми людьми, интересными темами и проектами, приятными встречами. Я очень люблю свой офис, в котором меня встречают мои любимые сотрудницы, красавицы и умницы. А еще у меня есть арт fashion гардероб, наполненный уникальными арт-объектами, сошедшими прямо с подиума.
традиции и перспективы – тема научной статьи по СМИ (медиа) и массовым коммуникациям читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка
Человек и общество
А.В. СКАТЕРЩИКОВА старший преподаватель кафедры истории и философии Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова*
Индивидуализм в современном обществе: традиции и перспективы
В статье рассматриваются проблемы современного индивидуализма, его связь с прошлым и тенденции развития в будущем. Обращается внимание на трактовку этого явления представителями различных школ и направлений в философии и социологии.
Ключевые слова: индивидуализм, солидарность, коллективизм, аривизм, личность, социальные связи, общество, независимость, глобализация, социальная философия.
Skatershchikova A.V. Individualism in modern society: traditions and perspectives. The article deals with the problems of modern individualism, its connection with the past and future trends. Attention is drawn to the interpretation of this phenomenon by representatives of various schools and trends in philosophy and sociology.
Keywords: individualism, solidarity, collectivism, arivism, personality, social ties, society, independence, globalization, social philosophy.
С тем, что мы сегодня живем в глубоко индивидуалистическом обществе, уже никто не спорит. Даже некоторые страны и народы, которым по их природе свойственен коллективизм, делают некий «реверанс» в сторону индивидуализма.
Россия стоит на перекрестке между Востоком и Западом, соединяя их. С одной стороны, Россия всегда тяготела к коллективизму Востока, в то время как Запад развивался на индивидуалистической основе. Но в современном мире и Россия стала перенимать западные ценности, которые, в
* Скатерщикова Алла Викторовна, e-mail: [email protected]
свою очередь, формируются и под американским влиянием. То есть налицо — результаты глобализации.
Тема «нового индивидуализма», являющегося результатом динамики современной модернизации, становится предметом обсуждения в социологии и философии примерно во второй половине 1980-х гг., а в России и того позже — в 90-х гг.
Сегодня данная проблема во многих отношениях и формах постепенно приобретает все большую видимость, выявляя несколько процессов, связанных друг с другом.
Когда мы обращаемся к феномену индивидуализма, мы имеем в виду набор собственных моделей поведения и убеждений, связанных со значением личности, которые сопровождают процессы модернизации общества1.
Такие процессы ведут к разрыву связей с традиционным обществом. То есть мы наблюдаем параллельно рост индивидуализма — как практики и как идеологии, которые предопределяют, а лучше сказать, разрушают социальные связи.
И как следствие этих процессов — особое внимание уделяется, например, роли человека в приобретении или утрате статуса, взаимодействию с другими индивидами, общим знаниям социальных практик2. Все эти черты говорят о том, что центральной фигурой современных дискуссий является личность.
Можем ли мы действительно говорить о «новом индивидуализме»? Если да, то каковы связи, различия или совпадения между индивидуализмом прошлого и современным индивидуализмом? Какой же индивидуализм является доминирующим сегодня? Тот, который в первую очередь способствует потере социальных связей, повсеместно вторгаясь в логику рынка? В новом столетии мы фактически сталкиваемся с массовым распространением манипулируе-мого индивидуализма как источником риска для судьбы демократического общества.
Мы можем в самом деле утверждать, что в обществе глобализации происходит переоценка индивида как независимого и самодостаточного существа, «заботящегося толь-
1 Галухин А.В. Атрибуторный контекстуализм в действии: стандартное решение головоломки скептицизма // Социально-гуманитарные знания, 2015, № 8, с. 143-160.
2 Мамедова Н.М., Гавриш В.Д., Скатерщикова А.В., Фомина А.С. Спорт в пространстве социальных практик современной цивилизации // Теория и практика физической культуры, 2018, № 1, с. 16-18.
ко о себе»? Правильно ли говорить, что новый индивидуализм опустошил основы гражданской активности и что потребительская культура и ненасытное стремление к экспериментам с идентичностью неумолимо толкают к гибели людей? Наконец, в каких терминах можно говорить о новом индивидуализме за пределами границ Запада? Все эти вопросы требуют ответа. И, естественно, что существуют разные точки зрения на эту проблему.
Утверждения о ценности личности во всем своем разнообразии всегда подчиняются определенным социальным условиям1, выражением которых они являются. На самом деле история этого явления показывает, что оно имеет много значений и что существует много возможных подходов к его пониманию. Этим занимаются философы, антропологи, писатели, психологи, и, конечно же, социологи2. Однако понимание различных значений индивидуализма — это нечто совершенно иное, чем провозглашение того, что он сводится к условиям, которые его порождают.
С одной стороны, утверждается, что современное общество характеризуется господством необузданного, эгоистичного и аривистского индивидуализма, где нет места для социальных связей. Этот доминирующий индивидуализм англо-американского происхождения в настоящее время экспортируется по всей Европе и остальному миру, вызывая искоренение того, что осталось от традиционных ценностей солидарности и общности3.
Данный тип индивидуализма стал всеобъемлющим с появлением системы защиты прав потребителей, основанной на создании «нового человека», преданного потребле-
1 Корнилова И.М. Формирование системы высшего образования в национальных районах России (на материалах Поволжья): Учеб. пособие. Элиста, 2008.
2 Ivlev V.J., Ivleva M.I., Panyukov A.I., Zulfugarzade T.E. Analysis of the touristic recreational potential of a territory as a condition for development of ecological tourism (the southern Moscow region case study) // Journal of Environmental Management and Tourism, 2017, vol. 8, № 2(18), p. 373-475.
3 Козьмин В.С. Ценностные приоритеты в системе коммуникаций глобального информационного общества // Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. Вступление. Путь в науку, 2016, № 1(13), с. 29-36.
нию и деньгам, полностью оторванного от своих корней, будь то социальные или индивидуальные особенности .
«Судьбу буржуа нужно понимать динамически, он не всегда был один и тот же. Эта обращенность буржуа к будущему, эта воля к возвышению, к обогащению, к приобретению первых мест создает тип аривиста. Аривизм есть буржуазное миросозерцание по преимуществу, — писал Н.А. Бердяев, — и оно глубоко противоположно всякому аристократизму. В буржуа нет изначальности, он плохо помнит своё происхождение и своё прошлое в отличие от аристократа, который слишком хорошо помнит. Это он, главным образом, создал бесстильную роскошь и поработил ей жизнь. В буржуазной роскоши гибнет красота. Роскошь хочет сделать красоту орудием богатства, и красота от этого погибает»2
С другой стороны, в настоящий период в доминирующей «массовой культуре» в качестве альтернативы предлагается (очень расплывчато и отвлеченно от реальности) возврат к племенной/коллективистской системе, типичной для примитивных обществ. Эта система, как мы знаем, основана на первенстве общества (или сообщества) и отрицании личности, которая не может осознать свое собственное достоинство и свободу в противовес ее сегодняшнему состоянию.
В то же время создается новая динамика, в рамках которой приверженность коллективу переплетается с убежденностью в том, что только преумножение отдельных действий индивида способно в конечном итоге произвести изменения. Иными словами, в выборе пути для современного общества мы хотим перейти от одной крайности к другой.
На самом деле очень немногие предлагают создать «третий путь», основанный на здравом смысле, т. е. общество, в котором доминирует «индивидуализм солидарности», гармонизирующий элементы, присущие этим двум системам, и, таким образом, преодолевает их границы и противоречия.
Что такое солидарность в данном контексте? Если индивидуализм — это принесение в жертву личным интересам интересов общественных, а коллективизм — его противоположность, то солидарность как бы стоит между ними и ука-
1 Сидоренко Л.П. Ницшеанство как антитеза гуманизма // Продовольственная безопасность и устойчивое развитие АПК: Материалы Международной научно-практической конференции. 2015, с. 873-878.
Бердяев Н.А. О рабстве и свободе человека. Опыт персоналистической метафизики. М.: Республика, 1995, с. 375.
зывает на добровольность намерений1. Она демократична и базируется на наличии социальных связей между людьми.
Некоторые сторонники этой концепции, выдвигая категорию «индивидуализм солидарности», настаивают, в частности, на таких формах индивидуализма, которые вместо того, чтобы выражать собой ситуацию распада коллективных связей, как представляется, ведут к новой динамике социального регулирования. Эта теория отсылает нас к такой форме индивидуализма 60-х гг. прошлого столетия, как «космополитический индивидуализм», который проявлялся через транснациональные, гибридные и множественные идентичности.
В более общем плане процессы глобализации требуют пересмотра традиционной концепции социальной солидарности как продукта регулирующего аппарата (основных социальных институтов), выполняющего функцию социализации и организации индивидов в соответствии с потребностями общества, социального порядка2. Глобализация знаменует собой упадок «институциональной программы» и возникновение солидарности, которая превосходит силу принуждения национальных государств и социальных институтов, поскольку она передается новыми формами идентичности. Теоретики «индивидуализма солидарности» ссылаются на пример групп диаспоры, которые одновременно культивируют интеграцию в принимающей стране и не ослабляют тесные связи со страной происхождения. Они учатся справляться с противоречивой ситуацией, сплетением потребностей и вопросов, которые имеют различное, но одинаково законное происхождение. Опыт, характерный для многих и многих в современных обществах. Именно в этом контексте развивается космополитический индивидуализм, т. е. опыт построения на принципиально индивидуализированной основе инновационных социальных связей, форм нетрадиционного политического участия, нового отношения к социальному сотрудничеству.
Исследования известных социологов и философов, специалистов по проблемам глобализации У. Бека и З. Баумана отражают этап в социальной жизни, характеризующийся потерей тех надежных ориентиров, которые были
1 Понизовкина И.Ф. Еще раз об экологии // Вестник Российского философского общества, 2009, № 1, с. 128-131.
2 Гавриш В.Д., Заклинский П.А. Время и общественное сознание // Социально-гуманитарные знания, 2017, № 10, с. 204-208.
продиктованы стабильностью работы и классовой принадлежностью в прошлом. Теперь инициатива по борьбе с рисками полностью отдана физическим лицам, закрытым в собственном «одиночестве». С этой точки зрения индивидуализация становится своего рода осуждением, а самоопределение — «навязчивым и обязательным» требованием1.
Л. Шиолла, известный итальянский социолог, обращаясь к индивидуализму, как раз возникшему во времена кризиса публичной сферы, считает крайне «нереалистичными», хотя и имеющими под собой какую-то основу выводы данных авторов. «Социальная реальность, — отмечает она, — гораздо сложнее, чем показывают эти интерпретации. Она выявляет те пробелы, в которых развитие личности управляет процессами социальных преобразований». Требуемое ситуацией самоутверждение может быть положительно коррелировано с «нетрадиционными формами политического участия в общественной жизни»2.
Таким образом, как уже упоминалось выше, общество, слишком сосредоточенное на личности в ущерб коллективу, приходит к отсутствию стабильности и определенности, в то время как племенное/коллективистское общество, базирующееся на отсутствии свободы и ее составляющих, неотъемлемой частью которых является разнообразие, в современном мире просто не сможет существовать.
А вот с созданием общества, основанного на солидарности и индивидуализме, оба положительных аспекта двух систем, где права личности не препятствуют стабильности сообщества, или наоборот, были бы оценены и использованы.
Конечно, это была бы другая форма индивидуализма, которая не имеет ничего общего с эгоизмом либеральной формы или гедонизмом радикальной формы, доминирующей в обществе поздних 60-х гг. прошлого века. Следовательно, это индивидуализм, основанный не на безудержной конкуренции или культе собственного Эго, а на здоровом и сбалансированном индивидуализме внутренних качеств.
Инновационная попытка осмыслить траектории индивидуализма в современном обществе привела к необходи-
1 См.: Бауман З. Индивидуализированное общество / Пер. с англ.; Под ред. В. Л. Иноземцева. М.: Логос, 2002.
2 Sciolla L. Individualizzazione, individualismi e ricomposizione sociale // La societa degli individui, 2010, №. 37, p. 44.
мости ввести новый термин — «сингулярность» (единичность) — чтобы выделить явления, выходящие за рамки современного индивидуализма1. В то время как традиционализм характеризуется тяготением к самоопределению личности и поэтому к автономизации личной жизни от общественной (в работе, в семье, а также во вкусах и убеждениях), сингулярность выражается в признании вашей собственной неповторимости остальными, и, следовательно, в погружении человека в коллективную жизнь2. В то время как современный индивидуализированный субъект завоевывает свою автономию через разделение ролей, «сингулярный» субъект вливается в социальную жизнь, исходя из специфики и конкретности личной жизни3.
Трудности, с которыми столкнулись рассмотренные теории, заключаются в неприятии одной известной идеи, выдвинутой еще философами прошлого: свобода не существует вне ограничений, она находится внутри них. И в любом случае возникает противоречие между навязчивой ситуацией и самоопределением, между индивидуализмом как обязательным социальным условием этическим выбором быть самим собой.
1 Железнякова С.И. Философия здорового образа жизни: от моды к устойчивым общественным практикам // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке, 2016, т. 5, № 5А, с. 133-141.
2 Новикова ЕЮ. «Экономический человек»: быть и иметь // Вестник Московского университета. Серия 7: Философия, 1996, № 6, с. 19-29.
3 Crespi F.,MartuceIIi D. L’individualismo del nuovo secolo tra privatismo e nuove forme di legame sociale. C. Leccardi, & P. Volonté (a cura di) Milano: Egea, 2017, р. 1S.
Права человека и либеральный индивидуализм
«Любая попытка Организации Объединенных Наций разработать декларацию прав человека, основанную на индивидуалистических представлениях, неизбежно обречена на провал», – утверждал английский профессор политологии Гарольд Дж. Ласки (1893-1950). По его мнению, для выхода за рамки индивидуалистического мировоззрения требуется вмешательство государства, которое должно обеспечить своим гражданам определенный объем социальных прав. Ниже мы публикуем выдержки из его эссе Towards a Universal Declaration of Human Rights («На пути к всеобщей декларации прав человека»), которое он направил ЮНЕСКО из Лондона в июне 1947 года в ответ на опрос ЮНЕСКО о философских основах прав человека.
Гарольд Джозеф Ласки
Если мы хотим, чтобы всеобщая декларация прав человека долгое время оставалась значимой и не утрачивала актуальности, при ее подготовке крайне важно помнить о том, что великие декларации прошлого являются, прежде всего, наследием западной цивилизации, что они тесно связаны с протестантской буржуазной традицией, которая сама по себе характерна для прихода к власти буржуазии, и что, несмотря на их предполагаемую универсальность, усилия по их осуществлению слишком редко давали результаты на уровнях ниже, чем уровень среднего класса.
«Принцип равенства перед законом» ничего не значил для рабочего класса в большинстве политических сообществ и еще менее того – для негров на юге Соединенных Штатов Америки. В Великобритании «свобода ассоциаций» была признана за профсоюзами лишь в 1871 году. Во Франции, не считая краткого периода в 1848 году, она вступила в силу только в 1884 году. Чтобы добиться хотя бы частичного ее признания в Германии, пришлось дожидаться последних лет бисмарковского режима. В Соединенных Штатах Америки она реально обрела силу лишь с принятием в 1935 году Национального закона о трудовых отношениях (National Labour Relations Act), на который в настоящее время серьезно покушается Конгресс. Все права, провозглашенные в великих документах такого рода, выражают лишь чаяния, осуществление которых в любом политическом сообществе зависит от того, усматривает ли правящий класс в них угрозу для своих интересов или нет.
Помимо этого, не стоит забывать, что старые декларации прав исходят из предположения об антагонизме в политическом сообществе между свободой индивида и властью правительства. Проблема здесь не только в том, что права граждан рассматриваются в политическом плане сквозь призму индивидуализма. Еще более глубокая проблема связана с тем фактом, что авторы этих деклараций более или менее сознательно считали, что любое расширение власти правительства означает сокращение личной свободы. Знаменитые максимы – такие, например, как сказанное Бентамом: «Никто не знает, что нам нужно, лучше нас самих» и «Каждому следует рассчитывать только на себя, и не более» – применимы лишь к такой форме общественной организации, которую столь красноречиво описал Адам Смит. Он говорил о ней, в частности, что люди, вовлеченные в ожесточенное соперничество на экономическом поле, в результате «простой игры естественной свободы» будут, «ведомые невидимой рукой, служить единой цели, которую никто из них, будучи взят в отдельности, перед собой не ставит». И цель эта под воздействием некой таинственной алхимии оказывается благом для общества.
Даже если утверждать, – но утверждение такое будет, мягко говоря, сомнительным, – что эта либеральная концепция когда-то была верной, то сегодня она совершенно точно не верна. Некоторые важнейшие элементы общего блага зависят от действий государства. Условия образования, жилья, здравоохранения, страхования от безработицы не могут достичь уровня, удовлетворяющего все развитое общество в западной цивилизации путем простого сотрудничества граждан без вмешательства правительства. И потому при ближайшем рассмотрении вопроса становится ясно, что хотя существует неизбежный антагонизм между личной свободой и государственной властью, в некоторых областях общественной жизни применение такой власти необходимо для обеспечения свободы. Не учитывающая этого декларация прав к нашей эпохе неприменима. […]
Идеологические различия
В свете этих соображений любая попытка Организации Объединенных Наций разработать декларацию прав человека, основанную на индивидуалистических представлениях, неизбежно обречена на провал. Такая декларация будет иметь мало веса в тех политических обществах – а их число растет – которые все ощутимее испытывают нужду в упорядочении и планировании своей социальной и экономической жизни. Резонно предположить, что защитники исторических принципов, которые в настоящее время активно оспариваются, могут увидеть в декларации, основанной на принципах индивидуализма, угрозу для нового уклада жизни. Эффект состоял бы в разобщении, а не в объединении первых же попыток достичь общей цели через общие институты и общие принципы поведения – тех попыток, которые такого рода декларация призвана поощрять.
На самом деле, если в этой декларации не будут учтены важные идеологические различия между политическими обществами и их воздействие на поведение индивидов и коллективов, то пользы от нее не будет никакой, а вот потерять от ее принятия можно будет немало. Игнорировать эти различия означало бы полностью отрицать пропасть в отношении социалистического общества или даже общества, пытающегося поставить социалистический эксперимент, с одной стороны, и общества капиталистического, с другой стороны, к частной собственности, к гражданскому и уголовному праву, к услугам здравоохранения и образования, к возможности для каждого человека в определенном возрасте освободиться от необходимости работать ради хлеба насущного, к роли, которую играет в обществе искусство и культура в самом широком смысле этого слова, к методам распространения информации и идей, к выбору профессии, к профессиональному росту и к связям профсоюзного движения с экономическим прогрессом. […]
Вес правящего класса
Сложно также не прийти к выводу, прекрасно сформулированному Марксом, заявившим, что «доминирующие идеи эпохи – это те идеи, которые принадлежат ее правящему классу». Из этого следует, что с исторической точки зрения декларации о правах человека были фактически не чем иным, как попытками освятить те права того или иного правящего класса, которые он в данный момент развития политического общества считал важными для своих собственных членов. Нет сомнений, что эти декларации зачастую, и даже как правило, писались, чтобы носить универсальный характер, и эта претензия на универсальность, может быть, даже позволяла им иметь влияние и за пределами той сферы, для которой они предназначались. На практике же их всеобщий характер во многом определялся конкретными обстоятельствами и, насколько это было возможно, приводился в соответствие с тем, что, по мнению правящего класса, было в его интересах – или, по крайней мере, не выходило за рамки уступок, на которые он был готов пойти. […]
На пути к смелой декларации и конкретным правам
Международная декларация прав человека, основанная на этих предпосылках и разработанная в соответствии с этими выводами, в которой мужчины и женщины всего мира могли бы увидеть программу действий, несомненно, способствовала бы признанию необходимости реформ, которую никак нельзя больше отрицать, не вызывая яростную революцию в одной стране, мощную контрреволюцию в другой и не открывая еще худшую перспективу международного конфликта, который легко может обернуться глобальной гражданской войной.
Чтобы такая декларация обрела желаемую значимость, она должна отличаться смелостью общих принципов и конкретикой частных положений. Она должна скорее исходить из зарождающихся возможностей, чем из традиций, агонизирующих на наших глазах. Будет лучше вовсе обойтись без декларации, чем иметь робкий и расплывчатый документ, пытающийся найти шаткий компромисс между непримиримыми социальными принципами. Вместо положительного воздействия такая декларация может возыметь самые гибельные последствия, если она не будет провозглашена с твердой надеждой, что члены Организации Объединенных Наций сознательно и без оговорок обяжутся ее соблюдать.
В эпоху, подобную нашей, когда оказалась беспомощной Лига Наций, беззастенчиво игнорируется пакт Бриана-Келлога, международное право и традиции цинично нарушаются, когда люди живут при варварской тирании режимов, чья политика оправдывает пытки и массовые убийства, нельзя позволить себе новый провал, который может иметь непредсказуемые последствия. Мы не имеем права пробудить у человечества надежду, если не сможем создать условия, без которых эта надежда не сможет реализоваться. Вновь поправ то, что простые люди считают основой своего человеческого достоинства, государственные деятели породят катастрофу, после которой у нашей цивилизации более не останется надежд на выживание.
Фото: Бубекер Хамси
Определение индивидуализма Merriam-Webster
ин · ди · вид · у · ал · изм | \ ˌIn-də-ˈvij-wə-ˌli-zəm, -ˈvi-jə-wə- , -ˈVi-jə-ˌli- \ 1а (1) : доктрина о том, что интересы человека являются или должны быть этически первостепенными. также : поведение, руководствующееся такой доктриной (2) : концепция, согласно которой все ценности, права и обязанности исходят от людейб : теория, поддерживающая политическую и экономическую независимость человека и подчеркивающая индивидуальную инициативу, действия и интересы. также : поведение или практика, руководствуясь такой теорией
Индивидуализм — по отраслям / доктрине
Введение | Политический индивидуализмИндивидуализм — это моральное, политическое или социальное мировоззрение, которое подчеркивает человеческую независимость и важность индивидуальной самостоятельности и свободы .Он противостоит большинству внешнего вмешательства в выбор человека, будь то со стороны общества, государства или какой-либо другой группы или учреждения ( коллективизм или этатизм ), а также возражает против точки зрения, что традиция , религия или любая другая форма внешнего морального стандарта должна использоваться, чтобы ограничить индивидуальный выбор действий.
Этический индивидуализм , таким образом, это позиция, согласно которой индивидуальная совесть или разум является только моральным правилом , и не существует никакого объективного авторитета или стандарта, который он обязан принимать во внимание.Его можно применить к морали Шотландской школы здравого смысла конца 18 века, автономной морали Иммануила Канта и даже к древнегреческому гедонизму и эвдемонизму.
Некоторые индивидуалисты также являются эгоистами (этическая позиция, согласно которой моральные агенты должны делать все, что соответствует их собственным интересам ), хотя обычно они не утверждают, что эгоизм по своей сути хорош. Скорее, они будут утверждать, что люди не связаны обязанностями какой-либо какой-либо социально навязанной морали, и что люди должны иметь право выбирать , быть эгоистами или нет.
Экзистенциалистской этике также свойственен акцент на моральном индивидуализме, особенно с учетом того, что она сосредоточена на субъективных, личных жизнях отдельных людей. Экзистенциализм утверждает, что не существует базовой и данной человеческой природы, которая является общей для всех людей , и поэтому каждый человек должен определить индивидуально, , что человечество означает для них и какие ценности или цели будут доминировать в их жизни.
Термин «индивидуализм» был впервые использован французскими и британскими прото-социалистами, последователями Сен-Симона (1760–1825) и Роберта Оуэна (1771–1858), первоначально как уничижительный термин , и в основном в смысле Политический индивидуализм (см. раздел ниже).Американец XIX века Генри Дэвид Торо — , который часто называют как пример убежденного индивидуалиста. В популярном употреблении коннотации «индивидуализма» могут быть положительными или отрицательными , в зависимости от того, кто и как использует этот термин.
Политический индивидуализм — это теория, согласно которой государство должно брать на себя всего лишь защитную роль , поскольку защищает свободу каждого человека действовать так, как он или она, до тех пор, пока он или она не нарушает та же свобода другого (по сути, позиция laissez-faire , лежащая в основе классического либерализма, либертарианства и современного капитализма).Он видит себя в фундаментальном противодействии таким концепциям, как «общественный договор» Жан-Жака Руссо , который утверждает, что каждый человек по неявному контракту подчиняет свою собственную волю «общей воле» , и в противоположность любая коллективистская идеология , такая как социализм или коммунизм.
Некоторые политические индивидуалисты придерживаются точки зрения, известной как Методологический индивидуализм , что общество (и правительство, если на то пошло) не имеет какого-либо существования или значения помимо набора индивидуумов или за его пределами, и, таким образом, нельзя правильно сказать, что совершать действий или обладать умыслом .Некоторые даже используют радикальный подход под названием Индивидуалистический анархизм (см. Анархизм), согласно которому преследование собственных интересов не должно ограничиваться каким-либо коллективным органом или государственной властью, отказываясь принимать даже решения демократического правительства .
Индивидуалистические культуры и поведение
Культура — это один из факторов, который может влиять на то, как люди думают и ведут себя. Одним из факторов, который часто изучают кросс-культурные психологи, являются различия и сходства между индивидуалистическими культурами и коллективистскими культурами.
Индивидуалистические культуры — это культуры, которые ставят потребности отдельного человека выше потребностей группы в целом. В этом типе культуры люди считаются независимыми и автономными. Социальное поведение, как правило, диктуется взглядами и предпочтениями людей. Культуры Северной Америки и Западной Европы склонны к индивидуализму.
Иллюстрация JR Bee, VerywellЧерты индивидуалистической культуры
Скорее всего, вы, вероятно, слышали термины индивидуалистическая и коллективистская культуры раньше, часто в контексте выявления различий в поведении и отношении между двумя типами обществ.Так что же именно отличает индивидуалистические культуры от коллективистских?
Вот несколько общих характеристик индивидуалистических культур:
- Быть зависимым от других часто считается постыдным или неловким
- Независимость высоко ценится
- Права личности в центре внимания
- Люди часто уделяют больше внимания тому, чтобы выделяться и быть уникальными
- Люди склонны полагаться на собственные силы
- Права личности имеют более высокий приоритет
В индивидуалистических культурах люди считаются «хорошими», если они сильны, самостоятельны, напористы и независимы.Это контрастирует с коллективистскими культурами, где такие характеристики, как самоотверженность, надежность, щедрость и помощь другим, имеют большее значение.
Некоторые страны, которые считаются индивидуалистическими культурами, включают США, Германию, Ирландию, Южную Африку и Австралию.
Индивидуалистические и коллективистские культуры
Индивидуалистические культуры часто сравнивают и противопоставляют более коллективистским культурам. В то время как коллективизм подчеркивает важность группового и социального сотрудничества, индивидуализм ценит такие вещи, как:
- Автономность
- Независимость
- Самостоятельность
- Уникальность
Если люди в коллективистских культурах с большей вероятностью обратятся к семье и друзьям за поддержкой в трудные времена, то люди, живущие в индивидуалистических культурах, с большей вероятностью пойдут на это в одиночку.
Индивидуалистические культуры подчеркивают, что люди должны иметь возможность решать проблемы или достигать целей самостоятельно, не полагаясь на помощь других. От людей часто ожидается, что они «подтянутся за шнурки», когда сталкиваются с неудачами.
Эта тенденция сосредотачиваться на личной идентичности и автономии является неотъемлемой частью культуры, которая может иметь глубокое влияние на то, как функционирует общество. Например, работники индивидуалистической культуры с большей вероятностью будут ценить собственное благополучие выше блага группы.
Сравните это с коллективистской культурой, где люди могут жертвовать собственным комфортом ради общего блага всех остальных. Такие различия могут влиять практически на все аспекты поведения, начиная от карьеры, которую выбирает человек, продуктов, которые он покупает, и от социальных проблем, которые его волнуют.
Например, подходы к здравоохранению находятся под влиянием этих тенденций. Индивидуалистические культуры подчеркивают важность того, чтобы каждый человек заботился о себе, не полагаясь на помощь других.Представители коллективистских культур могут вместо этого сделать упор на разделении бремени заботы с группой в целом.
Влияние на поведение
Влияние культуры на индивидуальное поведение — одна из основных тем, представляющих интерес в области кросс-культурной психологии. Кросс-культурные психологи изучают, как различные культурные факторы влияют на индивидуальное поведение. Они часто сосредотачиваются на вещах, универсальных для разных культур мира, а также на различиях между обществами.
Один интересный феномен, который наблюдали кросс-культурные психологи, — это то, как люди из индивидуалистических культур описывают себя по сравнению с тем, как люди из коллективистских культур описывают себя.
Представления людей из индивидуалистических обществ больше ориентированы на независимость, чем на взаимозависимость. В результате они склонны описывать себя с точки зрения своих уникальных личных характеристик и черт.
Человек индивидуалистической культуры может сказать: «Я аналитический, саркастичный и спортивный.«Это можно противопоставить самоописаниям людей, живущих в коллективистских обществах, которые с большей вероятностью скажут что-то вроде:« Я хороший муж и верный друг ».
Насколько сильно эти самоописания различаются в зависимости от культуры? Исследование, проведенное Ма и Шенеманом, показало, что 60% кенийцев (коллективистская культура) описывали себя с точки зрения их ролей в группах, тогда как 48% американцев (индивидуалистическая культура) использовали личные характеристики для описания себя.
Слово Verywell
Психологи стали лучше осознавать мощное влияние культуры на индивидуальное и групповое поведение. Чтобы понять, насколько сильными могут быть эти влияния, важно посмотреть как на сходства, так и на различия между коллективистской и индивидуалистической культурами.
Индивидуализм | Encyclopedia.com
Индивидуализм — это доктрина, касающаяся как состава человеческого общества, так и конституции социокультурных субъектов.Этот термин был изобретен в 1820-х годах, по-видимому, во Франции (Swart 1962). Его первое появление на английском языке датируется переводом 1835 года исследования Алексиса де Токвиля о Соединенных Штатах (Tocqueville [1850] 1969, p. 506). Основное понятие, выраженное недавно придуманным словом, что индивид является суверенным по отношению к обществу, было сильно противоречивым, поскольку оно стояло на могиле одного установленного порядка, провозглашая подъем другого. По мнению одного из первых французских критиков, индивидуализм «разрушает саму идею послушания и долга, тем самым разрушая и власть, и закон,« не оставляя ничего », кроме ужасающего смешения интересов, страстей и различных мнений» (цит. По: Lukes 1973, p. .6).
Индивидуализм следует отличать от исторически определенных конституций индивидуальности человека. Слово «индивидуум», используемое для отделения конкретного человека от коллективов («семья», «государство»), было в обращении на протяжении веков до Токвиля (хотя в основном как прилагательное), и индивидуализации практиковались под одним описанием. или другое задолго до этого, по крайней мере, о чем свидетельствуют старейшие сохранившиеся тексты истории человечества. Однако досовременные конституции индивидуальности не стали средоточием особой доктрины индивидуализма.Это развитие явилось ответом на глубокие изменения социальной структуры и сознания, которые медленно накапливались в течение семнадцатого и восемнадцатого веков. В процессе трансформации средневекового мира в современный возникли новые смысловые прозрачности, среди которых наиболее важное — особая концепция «индивида». Огромная сила этой концепции отражается в том факте, что люди современного общества обычно не сомневаются в том, что такое «индивидуум» .Ссылка была самоочевидной, потому что упомянутый объект, индивидуум , был самоочевидным, предопределенным, естественным.
Но нужно помнить, что «индивид» — это конструкция. Как и все конструкции, он исторически изменчив. Значение индивидуализма «индивидуум» сформировалось в конкретных исторических обстоятельствах, которые, как на практике, так и в идеологии, все более ценили ценности рационального расчета, мастерства и экспериментов; сознательные усилия по улучшению условий жизни человека; и универсализм, основанный на убеждении, что «человеческая природа» в основном одна и та же везде во все времена и что рациональность уникальна по численности.Эти обязательства проявились в доктрине индивидуализма (как, впрочем, и в формировании современных социальных наук). Ко времени Токвиля и нового слова индивидуализм стал неотъемлемой частью практического сознания современного общества. Человеческие существа объективировались как экземпляры «индивидуума», то есть как экземпляры особого вида индивидуальности.
Силы, созданные в тот период становления, вызвали огромные изменения в структуре общества, многие из которых продолжают сказываться.Конечно, с изменением исторических обстоятельств изменились и «индивидуальность» индивидуализма, и конституция индивидуальности. Тем не менее, определенная прозрачность смысла остается и сегодня в нашем практическом сознании «индивидуума», и это все еще поддерживается доктриной индивидуализма. Таким образом, когда социолог говорит, что «естественной единицей наблюдения является индивид» (Coleman 1990, p. 1), он может предположить, не опасаясь неудачи, что большинство его читателей точно знают, что он имеет в виду.
Остальная часть этой статьи предлагает краткие отчеты о (1) развитии индивидуализма в течение семнадцатого, восемнадцатого и девятнадцатого веков, (2) недавних сдвигах акцентов в индивидуалистической концепции «индивидуума» и (3) некоторых современных вопросы и проблемы. Более расширенные методы лечения можно найти у Macpherson (1962), Lukes (1973), Abercrombie et al. (1986), Heller et al. (1986) и Hazelrigg (1991), среди других.
САМОПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
Хотя элементы индивидуализма можно увидеть в выражениях практических вопросов уже в эпоху Возрождения XII века (Macfarlane 1978; Ullmann 1966), первое более или менее систематическое изложение доктрины было сделано во время 1600-е годы.Такие ученые, как Рене Декарт, Томас Гоббс и Джон Локк, считали, что для понимания целого (например, общества) нужно сначала понять, из каких частей оно состоит. В случае общества эти части, строительные блоки общества, были экземплярами «индивидуума». Несмотря на разногласия по различным конкретным вопросам — например, отличается ли человеческое действие от естественного мира причинной необходимости (Декарт) или продукта этой причинной необходимости (Гоббс), — эти ученые семнадцатого века проявили удивительную уверенность в своем понимании » индивид «как досоциальный атом.Их личность была в высшей степени абстрактным существом, сидящим на корточках за пределами мира.
В досовременном порядке европейского общества социальные отношения были органическими, корпоративными и в основном аскриптивными. Суверенитет был сложным отношением долга, ответственности и милосердия, сосредоточенным на определенном месте в иерархическом порядке органического сообщества. Безусловно, члены общины были индивидуализированы, но различие составляло прежде всего аскриптивное положение в иерархическом порядке.Например, из сохранившихся документов двенадцатого века ясно, что один отдельный рыцарь отличался от любого другого способами, которые мы бы описали как «личность». Однако, за редкими исключениями, дискриминация носила локальный характер. В остальном рыцарей различались в основном по родословной, верности и рыцарским качествам. Люди могли подниматься (и опускаться) по ступеням ранга, но вертикальное движение было сначала внутри семьи или группы домашнего хозяйства. Рыцарь, стремившийся к еще более высокому положению, сначала должен был остаться в другой, более могущественной семье.Точно так же, хотя нет никаких оснований сомневаться в том, что жители деревни или города XII века могли надежно различать друг друга по физиономическим особенностям, изображение людей на картинах сосредоточено на вопросах костюма, положения и осанки, чтобы обозначить социальные различия между людьми. практически безжизненные манекены. Даже в революционных произведениях, приписываемых Джотто (1267–1337), чьи тонкие жесты и взгляды начали достаточно индивидуализировать изображения, чтобы их можно было назвать портретами в современном смысле, такие черты лица, как бородавки, жировики, родинки, морщины, линии, шрамы , и обвисшая кожа все еще не имели отношения к визуализированной идентичности или характеру человека и, следовательно, отсутствовали.Но к концу 1400-х годов мы видим, особенно в «Портрете старика и мальчика » Доменико Гирландайо (около 1490 г.), изображающих, которые с точки зрения современной чувствительности считаются реалистично индивидуализированными лицами. Искусство портретной живописи постепенно превратилось в рекламу нового актера, в центре внимания — суверенного человека современности (Haskell 1993).
В этом новом порядке, в отличие от своего предшественника, социальные отношения были задуманы как договорные, а не органические, основанные на достигнутых, а не приписываемых чертах индивидов, освобожденных от ограничений сообщества.Городская жизнь снова оказалась в центре внимания территориальной организации, сместив дворянскую систему. То, что впоследствии стало современным национальным государством, начало формироваться в период относительного мира, установленного несколькими Вестфальскими договорами в 1648 году. В этом контексте изобретений и экспериментов с новыми (или обновленными) организационными формами зародился новый человек. как полностью отдельная сущность идентичной целостности, «голый индивид», который может свободно соглашаться вступать в сговор с другими, равнозначно конституируемыми индивидами, каждый из которых руководствуется личными интересами.Это было, как описал Макферсон (1962), приходом «собственнического индивидуализма», и это хорошо коррелировало с развивающимися мотивами капитализма.
К концу восемнадцатого века индивидуализм получил зрелое выражение в трактатах Дэвида Юма, Адама Смита и Иммануила Канта, среди прочих. В этом зрелом заявлении, разработанном в контексте быстро меняющихся политико-экономических институтов, подчеркивается центральная роль «саморепрезентирующего человека». Главное утверждение — что «каждый человек выступает как автономный субъект своих [или ее, но прежде всего его] решений и действий» (Goldmann [1968] 1973, p.20) — служит стержнем формализованного объяснения политических и экономических прав членов общества, особенно имущих. Выражение главного притязания на моральные и юридические права личности закрепилось в недавно изобретенных традициях, в узаконивании таких принципов, как «народный суверенитет» и «неотъемлемые права», а также в таких документах общественной культуры, как Декларация прав человека. и Конституция Соединенных Штатов Америки (Hobsbawm and Ranger 1983; Morgan 1988).Молитвенное предписание «Да благословит Бог сквайра и его родственников и сохранит нас на должном месте» было заменено почти полностью светским « I присягнуть на верность флагу» (т. Е. Абстрактному знаку). В то время как в заявлении об автономии подчеркивается универсальность прав и особенность «Я», практический акцент на самопредставляющей личности был сформулирован в политико-экономических терминах, что «требовало» разработки подробных определений и процедур для защиты «прав собственности». «задолго до того, как, скажем, такое же внимание будет уделено» правам инвалидов.»
Подобно индивиду органического сообщества, саморепрезентативный индивид является существенным присутствием, проявляющимся как воплощение единой человеческой природы, и как таковой является носителем различных черт, предрасположенностей и предрасположенностей. Однако это место Способность репрезентативного индивида к агентству и потенциал к автономии не есть ни сообщество, ни накопленные черты, предрасположенности и предрасположенности. Скорее, это глубоко внутренне по отношению к тому, что стало новой «внутренней природой» человека.За способностью разума, за всеми чувствами, эмоциями и убеждениями стоит «воля». Эмиль Дюркгейм ([1914] 1973) описал это как эгоистическую волю индивидуального полюса homo duplex , для Джорджа Герберта Мида (1934) это был «принцип действия». Но до того, как один из этих социологов, главный теоретик саморепрезентации индивида, Иммануил Кант, сформулировал основной принцип как чистое функционирование «Я» во времени. Кант ([1787] 1929, B133) утверждал, что только потому, что я могу объединить множество заданных представлений объектов в одно сознание , возможно, что я могу «представить себе идентичность сознания » во всех этих репрезентациях. .Другими словами, сама возможность познания внешнего мира зависит от временной непрерывности «Я». Индивид является абсолютным владельцем этой чистой функциональности, этого желания «Я» как основного принципа действия; индивид абсолютно ничего не должен обществу за это.
Понимая сущностное ядро человеческой индивидуальности как глубоко интериоризованную, радикально изолированную чистую функциональность, связи между индивидом и основными чертами, которые он или она несет, становятся произвольными.Человек формально свободен в выборе своих качеств, свободен быть мобильным в географическом, социальном, культурном и личном плане. Аскриптивные черты обесцениваются в пользу достигнутых, и один набор достигнутых черт всегда можно обменять на другой набор. Этот принцип свободно обмениваемых черт, стремление к прогрессу к «хорошему обществу» зависел от новых средств социализации (или «интернализации норм»), чтобы обеспечить достаточную регулярность в процессах обмена.В самом деле, саморепрезентация индивида была центральным элементом особого режима поведения, нового практического значения «дисциплины» (Foucault [1975] 1977). В соответствии с доктриной индивидуализма договорные, ассоциативные формы социальных отношений, хотя и менее подходящие по своим нормативным ограничениям, чем старое органическое сообщество, были дополнены фигурой «самодельного человека», который усвоил все нормы общества. порядочность и порядочность настолько хороши, что достойны жизни в беспрецедентно свободном обществе.Когда реальность не соответствовала имиджу, для разрешения конфликта интересов и нарушения прав отдельных лиц требовались суды и иски. Примечательно, что к середине 1800-х годов на английском языке не было опубликовано ни одной книги о деликтном праве; взрывной рост деликтного права и правил третьих сторон только начинался (Friedman 1985, pp. 53–54).
Потому что доктрина индивидуализма дает набор ответов на вопросы, лежащие в основе социологии (как и социальных наук в целом): что такое индивид? Как возможно общество? и так далее — практически каждая тема, впоследствии рассматриваемая социологией, так или иначе затрагивала аспекты индивидуализма.Учитывая состав индивидуализма, представляющего себя как личность, наиболее важные проблемы часто касались вопросов взаимосвязи между подъемом индивидуализма и развитием новых форм политико-экономической организации, которые проявляются в капитализме, бюрократии и современном государстве. Действительно, эти отношения были в центре внимания одной из величайших дискуссий, занимавших многих ранних социологов (Abercrombie et al. 1986). Вряд ли кто-то сомневался в существовании или важности отношений.Скорее, дискуссии касались таких вопросов, как причинное направление (что вызвало что?), Периодизации (например, когда начался капитализм?) И были ли идеи или материальные условия (каждая категория задумана как лишенная другой) основной движущей силой. . Во многих отношениях дебаты были продолжением той борьбы, из-за которой они велись.
Другие, более конкретные темы, затронутые социологами, также касались аспектов подъема индивидуализма. Некоторые из них уже упоминались (например,г., новый режим дисциплины). Дополнительными примерами являются развитие сектантских (в отличие от церковных) религий, за которыми следует еще более приватизированное мистико-религиозное сознание изолированного человека; изменения в домашней архитектуре, такие как больший упор на индивидуализированные уединенные пространства и функционально специализированные комнаты; изменения в манерах за столом, правилах вежливости и других «изысках вкуса»; появление «конфессионального Я» и практики ведения дневника; усиление акцента на романтической любви («аффективный индивидуализм») при выборе партнера; новые формы литературного дискурса, такие как роман и автобиография; рост профессионализма; и рост современной корпорации как организационной формы, которая, получив статус юридического лица, сравнимого с человеком из плоти и крови, поставила под сомнение понимание «воли» как основы и движущей силы договорных отношений ( см. Abercrombie et al.1986; Хорвиц 1992; Перро [1987] 1990).
САМОВЫРАЖАЮЩИЙСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
Фигура самовыражающегося индивида оказалась нестабильной, даже несмотря на то, что значение репрезентации постепенно менялось. Это произошло главным образом потому, что те же факторы, которые породили эту версию индивидуализма, также привели к исчезновению прозрачного знака. Например, в то время как одежда, манеры, телосложение и подобные черты были в старом порядке надежными знаками (репрезентациями) ранга или положения человека в жизни, этот знак становился все более произвольным в своем отношении к земле.Это ослабление знака вместе с увеличением количества обменных знаков привело к новому универсализму «пустого знака». Прототипом были деньги и товарная форма: лишенный внутренней стоимости и способный представлять все, он не представляет ничего конкретного. Как описал этот процесс один недавний ученый, заимствуя статью Карла Маркса, «все твердое растворяется в воздухе» (Берман, 1983).
В то же время риторика трансисторических форм ценности (например, товара, неотъемлемых прав) допускает огромное количество индивидуальных вариаций в социокультурных условиях, в которых она может добиться успеха.Акцент индивидуализма на голом человеке становился все более обобщенным, что еще больше уменьшало значение групповых отношений и черт. Например, в середине 1800-х годов различие между государственными и личными делами проводилось на пороге дома и семьи. Семейная жизнь была главной «гаванью» органических отношений, заботливой домашней жизни и убежищем от испытаний работы и политики. Но вскоре сама гавань стала местом борьбы за еще большую индивидуацию.Из многих факторов, способствовавших этому восстанию против традиционных ограничений семьи, одним из наиболее важных была новая культура сексуальности, которая проявляла более общую и растущую озабоченность внутренними интересами и потребностями человека.
Прецедент для этой озабоченности можно увидеть в концепции Канта о саморепрезентации индивида (из-за трансцендентального «я» каждый индивид имеет общий потенциал для самоактуализации ), а также в романтических движениях раннего периода. 1800-е годы.Однако развитие нового «внутреннего дискурса личности» было в основном феноменом двадцатого века. Психология Зигмунда Фрейда и его учеников, безусловно, была частью этого развития; но другая часть была сформирована концепцией нового «социального гражданства» (Marshall 1964), которая подчеркивала права человека на социальное благополучие в дополнение к прежним мандатам политических и экономических прав. Постепенно возникла новая фигура индивидуализма — «самовыражающаяся личность».»
Индивидуализм представляющего себя человека продвигал идею о том, что все интересы в конечном итоге являются интересами голого человека. Новая версия индивидуализма как расширяет, так и модифицирует эту идею. В то время как саморепрезентирующий индивид ставит во главу угла самоконтроль. и упорный труд, самовыражающийся индивид обобщает значение «свободы выбора» от политико-экономических отношений обмена до вопросов личного образа жизни и потребительских предпочтений (Inglehart 1990).Центральное утверждение гласит, что «у каждого человека есть уникальное ядро чувств и интуиции, которое должно раскрыться или проявиться, если должна быть реализована индивидуальность» (Bellah et al. 1985, p. 336), и каждый человек имеет право развивать свои или ее уникальные способности к самовыражению. Недавнее изменение в законе о разводе отчасти иллюстрирует важность этого требования. До 1960-х годов одной из немногих органических связей, все еще сохранившихся в современном обществе, были брачные узы; несколько условий были признаны достаточно серьезными, чтобы иметь юридическую силу в качестве основания для их нарушения.С изобретением развода «без вины» (относительно однозначное законодательство, которое быстро распространилось от штата к штату; Jacob 1988) супружеские отношения стали гражданским договором, во многом похожим на любые другие, и свобода супруга выбирать развод в интересах удовлетворения невыполненных требований. потребности в самовыражении получили признание.
Еще одним проявлением этого самовыражающегося индивида является недавнее развитие специальной области, социологии эмоций (например, Barbalet 1998; Thoits 1989).Конечно, более ранние ученые (например, Георг Зиммель) признавали эмоциональные аспекты настроений, традиций, доверия и т. Д. И предполагали такие мотивы, как страх перед властью, тревога о спасении, зависть к успеху, неудовлетворенные амбиции и одноименная слава. Никто не предполагал, что люди досовременных обществ не испытывали эмоций — хотя обычно это было бы на идиоме «страстей», и ученые не соглашались, были ли они на самом деле антиисторическими, некультурными образованиями. Но до последних десятилетий двадцатого века эмоции редко рассматривались социологами как важная тема для исследования.Эмоциональные измерения жизни обычно рассматривались как подчиненные другим измерениям, так же как страсти рассматривались как опасные, когда они необузданы, — энергии, которые должным образом принадлежали тяге разума или «рациональной способности». (Помните, что большинство из семи смертных грехов были эмоциональными состояниями или следствиями эмоциональных состояний.) При правильном подчинении разуму эмоциональная энергия человека, представляющего себя, может достичь высоко оцененных общественных результатов, даже если конкретная эмоция сама по себе классифицируется как порок.Таким образом, как признавал, в частности, Адам Смит, частная жадность или алчность могут стать общественным благом с помощью рыночных транзакций. С другой стороны, для самовыражающегося человека эмоциональные аспекты жизни ценятся или должны цениться сами по себе, а не только из-за того, что может в них возникнуть. В то время как «погоня за счастьем» восемнадцатого века (одно из неотъемлемых прав человека, представляющего себя) было идиоматикой неограниченной формальной свободы личности преследовать корыстный интерес в торговле (социальная деятельность, по своей сути направленная вовне), ибо самовыражающийся индивид стремление к счастью относится к гораздо более интроспективному, индивидуально оцениваемому эмоциональному состоянию, «быть счастливым тем, кто он есть».»
Самовыражающийся индивид индивидуализма, несомненно, остается существенной сущностью, несущей определенные черты. -in-progress-from-inside «как бы). Более того, это смещение акцента сопровождается оговоркой, что только те черты, которые человек может свободно выбирать, а затем отбрасывать, должны быть релевантными критериями, по которым различать и оценивать людей.Критерии, выходящие за рамки индивидуального выбора («неизменные» черты, будь то биологические или социокультурные), считаются как неуместными, так и, во все большей степени, нарушением прав человека. В сочетании с логикой социального гражданства, основанной на «правах», это условие радикально индивидуалистической свободы обратимого выбора было связано с появлением обобщенного ожидания «полной справедливости» (Friedman 1985).
Точно так же доктрина индивидуализма всегда содержала большой фиктивный компонент.Например, спустя долгое время после того, как доктрина провозгласила суверенитет голого индивида, реальная индивидуальность людей продолжала сильно отмечаться аскриптивными чертами (например, пол, раса) и социокультурным наследием от родителей. Переход к выразительному индивидуализму отражает попытки поместить деятельность «свободного человека» за пределы отдельно задуманной области отношений господства. Вместо того, чтобы пытаться изменить эти отношения, самовыражающийся индивид должен «превзойти» их, сконцентрировавшись на логике прав, относящихся к свободному выражению индивидуальной воли в области «личной культуры» (Marcuse [1937] 1968).
Однако художественная литература может быть продуктивной по-разному. Фикции индивидуализма часто превращались в надсмотрщиков, поскольку женщины, афроамериканцы, инвалиды и другие люди, подвергавшиеся дискриминации в первую очередь по объективным или групповым критериям, изо всех сил пытались привести реальность в соответствие с доктринальным образом.
НЕКОТОРЫЕ ТЕКУЩИЕ ПРОБЛЕМЫ
Поскольку индивидуализм был одной из профессиональных идеологий социальных наук («методологический индивидуализм»), извечный вопрос касается правильной структуры объяснения, в частности, должно ли объяснение какого-либо социокультурного феномена в конечном итоге ссылаться на факты о людях, и если да, то что именно это означает (Coleman 1990; Hazelrigg 1991; Lukes 1973).Никто не отрицает, что коллективы состоят из индивидов. Но этот трюизм не решает ни вопроса о том, как следует понимать «композицию», ни вопроса о том, что составляет «личность». Короче говоря, методологическая проблема включает в себя ряд теоретико-концептуальных проблем, в том числе несколько, которые находятся на пересечении «индивидуального» индивидуализма и исторических вариаций в фактическом строении индивидуальности (Heller et al. 1986). Доктрина индивидуализма последовательно концептуализирует «индивидуума» как отдельного и самодостаточного агента, который действует внутри, но отдельно от сдерживающей социальной структуры.Индивид индивидуализма — это не совокупность социальных отношений, а субстанциальный атом, из которого состоят любые возможные социальные отношения. Это имеет определенные последствия для эмпирической области.
Как, например, понимать категорию «рациональное действие»? Какие минимальные критерии должны быть удовлетворены, чтобы конкретное действие можно было считать «рациональным»? Индивид, выступающий в индивидуализме, стремится к героическому — самодостаточному, самостоятельному и самоуправляемому, поднимающемуся над обстоятельствами, берущему на себя ответственность за свою судьбу и, в совокупности схожих атомов, строящему лучший мир.Этот человек вскоре занял центральное место как главный источник рациональных действий. В то время как ученые конца восемнадцатого века, такие как Адам Смит, продолжали напоминать читателям, что рациональное действие могло и действительно происходило из нерациональных мотивов (например, моральных чувств, этоса традиции, даже простой инерции привычки), почетного места в списке Источники мотивации все больше смещались в ту часть «умственных способностей», которая называлась «рациональной способностью», задуманной как инструмент воли.Акцент на рациональности как способности, «инструментальной рациональности», несомненно, поощрялся и в то же время способствовал растущему списку изобретательских успехов в тщательно продуманных, просчитанных замыслах, планах и проектах человеческой инженерии. (Вспомните успех голландских усилий, начавшихся во все большем масштабе в 1600-х и 1700-х годах, по оттеснению моря и созданию тысяч квадратных миль новой земли — для большинства из нас это малоизвестный исторический факт, но в более ранние периоды раз поистине дерзкое начинание.) Являются ли пределы рационального действия, таким образом, столь же строго ограниченными, как пределы рациональных размышлений, расчетов и намерений отдельного действующего лица? Большинство современных социологов согласны с ответом «нет» на этот вопрос, хотя они расходятся, иногда резко, в деталях ответа (Coleman 1990; Kuran 1995; Sica 1988).
Социальное действие может быть в высшей степени рациональным в совокупности, как по результату, так и по процессу, даже когда отдельные акторы, уделяя больше внимания нерациональным или иррациональным, чем рациональным мотивам и намерениям, ведут себя таким образом, который вряд ли соответствует доктринальному образу «героического актера». .«Люди действительно учатся на собственном опыте (если они происходят порывисто и медленно), и часть накопленного в результате этого обучения фонда состоит из организационных форм, в которые встроена рациональность. Эта« рациональность как форма »- материализованный интеллект таким же образом, как и рука — калькулятор, самолет или магнитно-резонансный томограф — это материализованное решение ряда проблем, позволяющее гораздо большему количеству людей использовать, извлекать выгоду и даже управлять рациональностью, встроенной в такие устройства, чем они понимают («рациональность как способность «), необходимые для проектирования их архитектур или для превращения дизайна в рабочий продукт.Более того, в то время как только что процитированные примеры можно легко интерпретировать как непосредственные и точные продукты рациональных способностей некоторого конкретного человека (таким образом, соответствующие модели героического актера изобретателя или первооткрывателя как гения), многие другие примеры рациональных организационных форм — семья структуры, рынки, бюрократия и т. д. — это в большей или большей степени постепенное нарастание косвенности, настроений, привыкания и случайностей, чем предполагаемые последствия рационально продуманных, расчетливых, инструментальных действий отдельных людей.Доктрина индивидуализма часто игнорирует важность этих последних источников рационального действия, как будто действия, которые они мотивируют, не совсем считаются или не считаются точно так же, как действия, которые непосредственно проявляют волевую силу аргументированных действий индивида. намерения.
Аналогичным образом, если индивид ничем не обязан обществу за «Я» как принцип действия, где следует проводить различие между детерминантами действия, которые являются социальными и теми, которые являются психологическими? Рассмотрим, например, человека, страдающего характеристиками, которые клинически (и, следовательно, в социальном плане) классифицируются как «депрессия».«Являются ли эти характеристики присущими только человеку, или они также каким-то образом описывают социальное состояние, которое является неотъемлемой частью индивидуума, охарактеризованного таким образом? Описание говорит что-либо об обстоятельствах жизни, которую Ломан разделял с бесчисленным множеством других людей, или это описание лишь внутренних страданий изолированного человека? У каждого из этих рассказов о том, что находится под описанием, были свои сторонники.Популярность лечебного режима, который подчеркивает прямое паллиативное воздействие или улучшение психического состояния (как в химических приложениях, будь то прозак или псилоцибин), предполагает растущее предпочтение второго варианта.
Некоторые социологи утверждают, что самовыражающийся индивид индивидуализма является точным описанием современных реконструкций индивидуальности, и что в этой новой форме «индивида» удаляется субстанция самости, самотождественная целостность индивида.Белла и его коллеги (1985) обвиняют появление «языка радикальной индивидуальной автономии», на котором люди «не могут думать о себе или других, кроме как о произвольных центрах воли (стр. 81)». Другие утверждают, что акцент на индивидуальной автономии и разделении является выражением мужских, патриархальных ценностей в отличие от женских ценностей социальной привязанности (Gilligan 1982). Третьи видят развитие совершенно нового «порядка симулякров» (Baudrillard [1976] 1983), в котором симуляция или симулякр заменяет, а затем побеждает реальное (например,ж., телевизионные изображения устанавливают параметры реальности). Предполагаемый результат — коллапс «социального» в безразличие «масс», которые больше не заботятся о различении «сообщений» (помимо их развлекательного эффекта), поскольку одна симуляция ничем не хуже другой.
Столь же спорные вопросы связаны с очевидным ростом у людей чувства причастности и множества законных прав, заявленных и часто выигрываемых от имени «индивидуального выбора». Фигура индивидуализма самовыражающегося индивида считается одними предвестником новой эры демократии, другие — подтверждением продолжающейся тенденции к большей атомизации (Friedman 1985).Обе оценки указывают на появление «индустрии прав», которая продвигает изобретение новых категорий юридических прав, относящихся ко всему: от гарантированной свободы экспериментировать с нетрадиционным образом жизни без риска дискриминации или возмездия до прав животных как индивидуально, так и на индивидуальной основе. на уровне вида — к возможности наделения генов «субъектоподобными способностями» и, таким образом, юридическим статусом (Glendon 1991; Norton 1987; Oyama 1985). Некоторые критики утверждают, что рост интереса к все более детализированному и «произвольному» индивидуальному выбору происходит за счет уменьшения интереса к социальным результатам.«Если люди не вернут в чувство, что общественные практики представляют собой некий естественный порядок, а не набор произвольных выборов, они не смогут надеяться избежать дилеммы неоправданной власти» (Unger 1976, p. 240). Обвинение напоминает убеждение раннего французского критика, цитируемого в первом абзаце.
ссылки
Аберкромби, Николас, Стивен Хилл и Брайан С. Тернер 1986 Суверенные индивиды капитализма . Лондон: Аллен и Анвин.
Барбалет, Дж.М. 1998 Эмоции, теория и социальная структура . Кембридж, Великобритания: Издательство Кембриджского университета.
Бодрийяр, Жан (1976) 1983 В тени молчания Большинство . Нью-Йорк: Полутекст (е).
Белла, Роберт Н., Ричард Мэдсен, Уильям М. Салливан, Энн Свидлер и Стивен М. Типтон 1985 Привычки Сердца . Беркли: Калифорнийский университет Press.
Берман, Маршалл 1983 Все твердое растворяется в воздухе .Лондон: Verso.
Коулман, Джеймс С. 1990 Основы социальной теории . Кембридж, Массачусетс: Издательство Гарвардского университета.
Дюркгейм, Эмиль (1914) 1973 «Дуализм человеческой природы и ее социальных условий». В Роберте Беллах, изд., Эмиль Дюркгейм о морали и обществе . Чикаго: Издательство Чикагского университета.
Фуко, Мишель (1975) 1977 Дисциплина и наказание , пер. Алан Шеридан. Нью-Йорк: Пантеон.
Фридман, Лоуренс 1985 Тотальная справедливость .Нью-Йорк: Фонд Рассела Сейджа.
Гиллиган, Кэрол 1982 Другим голосом . Кембридж, Массачусетс: Издательство Гарвардского университета.
Глендон, Мэри Энн 1991 Обсуждение прав . Нью-Йорк: Свободная пресса.
Гольдманн, Люсьен (1968) 1973 Философия Просвещения , пер. Генри Маас. Кембридж, Массачусетс: MIT Press.
Хаскелл, Фрэнсис 1993 История и ее образы . Нью-Хейвен, штат Коннектикут: Издательство Йельского университета.
Хейзелригг, Лоуренс 1991 «Проблема микромакро-связей: переосмысление вопросов личности, социальной структуры и автономии действий.» Current Perspectives in Social Theory 11: 229–254.
Heller, Thomas C., Morton Sosna, and David E. Wellbery 1986 Reconstructing Individualism . Stanford, Calif .: Stanford University Press.
Hobsbawm, Eric и Теренс Рейнджер, ред. 1983 The Invention of Tradition . Кембридж, Великобритания: Cambridge University Press.
Horwitz, Morton J. 1992 The Transformation of American Law, 1870–1960 . Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета.
Инглхарт, Рональд 1990 Культурный сдвиг в развитом индустриальном обществе . Принстон, Нью-Джерси: Издательство Принстонского университета.
Джейкоб, Герберт 1988 Тихая революция . Чикаго: Издательство Чикагского университета.
Кант, Иммануил (1787) 1929 Критика чистого разума , 2-е изд., Пер. Норман Кемп Смит. Лондон: Макмиллан.
Куран, Тимур 1995 Частная правда, публичная ложь . Кембридж, Массачусетс: Издательство Гарвардского университета.
Стивен Льюкс 1973 Индивидуализм . Оксфорд: Бэзил Блэквелл.
Макфарлейн, Алан 1978 Истоки английского индивидуализма . Оксфорд: Бэзил Блэквелл.
Макферсон К. Б. 1962 Политическая теория притязания Индивидуализм . Оксфорд: Издательство Оксфордского университета.
Маркузе, Герберт (1937) 1968 «Позитивный характер культуры». В Отрицания , пер. Джереми Дж. Шапиро. Бостон: Маяк.
Маршалл, Т.H. 1964 Класс, гражданство и социальное развитие . Нью-Йорк: Даблдей.
Мид, Джордж Герберт 1934 Разум, Я и общество , изд. Чарльз В. Моррис. Чикаго: Издательство Чикагского университета.
Морган, Эдмунд С. 1988 Изобретая людей . Нью-Йорк: Нортон.
Нортон, Брайан Г. 1987 Зачем сохранять естественное разнообразие? Принстон, Нью-Джерси: Издательство Принстонского университета.
Ояма, Сьюзан 1985 Онтогенез информации .Кембридж, Великобритания: Издательство Кембриджского университета.
Перро, Мишель, изд. (1987) 1990 История частной жизни , том 4, пер. Артур Голдхаммер. Кембридж, Массачусетс: Издательство Гарвардского университета.
Сика, Алан 1988 Вебер, Иррациональность и социальный порядок . Беркли: Калифорнийский университет Press.
Swart, Koenraad W. 1962 «Индивидуализм в середине девятнадцатого века (1826–1860)». Журнал истории идей 23: 77–90.
Тойц, Пегги А.1989 «Социология эмоций». Годовой обзор социологии 15: 317–342.
Токвиль, Алексис де (1850) 1969 Демократия в Америке , 13-е изд., Дж. П. Майер, изд., Джордж Лоуренс, пер. Нью-Йорк: Даблдей.
Ульманн, Вальтер 1966 Человек и общество в Средневековье . Балтимор: Издательство Университета Джона Хопкинса.
Унгер, Роберто Мангабейра 1976 Право в современном обществе . Нью-Йорк: Свободная пресса.
Лоуренс Хейзелригг
Методологический индивидуализм (Стэнфордская энциклопедия философии)
1.Истоки Доктрины
Фраза methodische Individualismus на самом деле была придумана Ученик Вебера Йозеф Шумпетер в своей работе 1908 года Das Wesen und der Hauptinhalt der Theoretischen Nationalökonomie . В первое использование термина «методологический индивидуализм» в Английский снова был написан Шумпетером в его Ежеквартальном журнале за 1909 год. Доклад по экономике , «О концепции социальной ценности» (см. Udehn 2001, 214). Однако теоретическая разработка доктрина принадлежит Веберу, и Шумпетер использует этот термин как способ ссылаясь на веберианский взгляд.
В Экономика и общество Вебер формулирует центральную заповедь. методологического индивидуализма следующим образом: при обсуждении социальных явлений, мы часто говорим о различных «социальных коллективы, такие как государства, ассоциации, бизнес-корпорации, фонды, как если бы они были отдельными лицами »(Weber 1922, 13). Таким образом, мы говорим о том, что у них есть планы, выполняются действия, терпят убытки и т. д. Учение о методологической индивидуализм не возражает против этих обычных способов говоря, он просто оговаривает, что «в социологической работе эти коллективы должны рассматриваться исключительно как результат и способы организация конкретных действий отдельных лиц, поскольку эти одни могут рассматриваться как агенты в ходе субъективно понятное действие »(Weber 1922, 13).
Для Вебера приверженность методологическому индивидуализму очень тесно связан с обязательством verstehende (или интерпретативные) модели объяснения в социологии. Причина для привилегия индивидуального действия в социологическом объяснении заключается в том, что только действие «субъективно понятно». Вебер резервы термин «действие» для обозначения подмножества человеческого поведения что мотивировано лингвистически сформулированными или «Значимые» психические состояния. (Вообще говоря: кашель это поведение, потом извиняться — это действие.) Обновление терминологии, можно сказать, что определяющая характеристика действие состоит в том, что оно мотивировано ментальным состоянием с пропозициональным содержание, то есть намеренное состояние. Важность действий для Вебера заключается в том, что у нас есть доступ к нему для интерпретации в силу нашего способность понять скрытый мотив агента. Это позволяет социолог, чтобы «достичь чего-то, что никогда не достижимые в естественных науках, а именно субъективные понимание действия составляющих индивидов »(Вебер 1922, 15).Теоретико-практическое объяснение занимает центральное место в социально-научный анализ, потому что, не зная почему человек делают то, что делают, мы не совсем понимаем почему любое из более масштабных явлений, с которыми они связаны происходить.
Таким образом, методологический индивидуализм — термин, слегка вводящий в заблуждение, поскольку цель не в том, чтобы отдавать предпочтение личности над коллективом в социально-научное объяснение, а скорее отдать предпочтение теоретико-практический уровень объяснения.Эта привилегия теоретико-практический уровень является методологическим, потому что он навязывается структура интерпретирующей социальной науки, цель которой — предоставить понимание социальных явлений. Действия могут быть понимается так, как не могут другие социальные явления, а именно потому что они мотивированы намеренными состояниями. Но только частные лица обладают интенциональными состояниями, и поэтому методологическая привилегия действия влекут за собой методологические привилегии лиц.Таким образом «индивидуализм» в методологическом индивидуализме — это больше побочный продукт его центральной теоретической приверженности, чем мотивирующий фактор. Это то, что пытались защитить защитники учения. общаться с большей или меньшей степенью успеха, требуя что он политически или идеологически нейтрален.
Стоит подчеркнуть разницу между методическими индивидуализм, в смысле Вебера, и старые традиции атомизма (или безусловный индивидуализм) в социальных науках.Многие писатели утверждают, что нашли истоки методологического индивидуализма среди экономисты австрийской школы (особенно Карл Менгер) и доктрины, сформулированные во время Methodenstreit 1880-х гг. (Удэн 2001). Другие прослеживают это до Томаса Гоббса, а «Разрешительно-композиционный» метод, разработанный в открытии. разделы Leviathan (Lukes 1968, 119). Тем не менее Отличительный характер этого типа атомизма резюмировался довольно очевидно, Гоббсом, с его предписанием «рассматривать людей так, как если бы но даже сейчас возник из-под земли и внезапно (как Мушромы) прийти к полной зрелости без всякого взаимодействия с каждым прочее »(1651, 8: 1).Атомистическая точка зрения основана на предположение, что можно разработать полную характеристику индивидуальной психологии, которая является полностью досоциальной, затем вывести, что произойдет, когда группа лиц, охарактеризованных таким образом, войдет в взаимодействие друг с другом. Методологический индивидуализм, на с другой стороны, не предполагает обязательств по какому-либо конкретному требованию о содержании намеренных состояний, которые мотивируют людей, и, таким образом, остается открытым для возможности того, что человеческий Психология может иметь неснижаемое социальное измерение.Таким образом, один из способов подчеркивая разницу между атомизмом и методологическим индивидуализм заключается в том, чтобы отметить, что первое влечет за собой полное сокращение от социологии к психологии, тогда как последняя — нет.
Наконец, следует отметить, что приверженность Вебера методологическому индивидуализм тесно связан с его более известными методологическими учение, а именно теория идеальных типов. Историческое объяснение может сделайте ссылку на фактическое содержание намеренных состояний, которые мотивировали конкретных исторических акторов, но социолог заинтересованы в создании более абстрактных пояснительных обобщения, и поэтому не могут апеллировать к конкретным мотивам отдельные лица.Таким образом, социологическая теория должна основываться на модель человеческого действия. И из-за ограничений, которые требует интерпретации, эта модель должна быть моделью рациональных человеческих действий (Вебер пишет: «удобно лечить все иррациональные, эмоционально детерминированные элементы поведения как факторы отклонения от концептуально чистого типа рационального действие »[1922, 6].)
Таким образом, одно из важнейших следствий методологического подхода Вебера. индивидуализм состоит в том, что он ставит теорию рационального действия в основу социально-научное исследование.Вот почему последующие поколения социальные теоретики под влиянием Вебера стремились добиться методологическое объединение социальных наук путем производства того, что стала известна как «общая теория действия» — тот, который расширил бы экономическую модель действий таким образом, чтобы включить центральные теоретические идеи действия (в первую очередь) социологи, антропологи и психологи. Работа Талкотта Парсонс в первой половине века был самым важным в в этом отношении, когда движение за объединение достигло своего апогея в совместная публикация в 1951 г. из К общей теории Действие , совместно редактируемое Парсонсом и Эдвардом Шилсом.Но вскоре впоследствии, частично из-за проблем с программой унификации, Парсонс отказался от своей приверженности как методологическому индивидуализму. и теория действия, придерживающаяся чисто теоретико-системной точки зрения. Это привело к полному провалу в проекте создания общей теории действие, пока оно не было возобновлено в 1981 году публикацией Юрген Хабермас Теория коммуникативности Действие .
2. Австрийская школа и
MethodenstreitНикогда не ускользало от чьего-либо внимания, что дисциплина, наиболее явно удовлетворяет ограничения методологического индивидуализма. микроэкономика (в традициях неоклассического маржинализма) и что homo economicus — наиболее четко сформулированная модель рациональное действие.Конечно, эта традиция не всегда была в господство в экономической профессии. В частности, есть многие, кто чувствовал, что макроэкономика может быть полностью самостоятельная область исследования (отраженная в том факте, что Учебную программу бакалавриата по экономике по-прежнему часто делят на «Микро» и «макро»). Всегда были тем, кто хотел бы построить график движения бизнес-цикла, или фондового рынка, полностью игнорируя мотивы что отдельные актеры могут иметь за то, что они делают.Сходным образом, многие пытались обнаружить корреляцию между макроэкономическими переменные, такие как уровень безработицы и инфляции, не чувствуя необходимость размышлять о том, почему изменение одной ставки может привести к движение в другом. Таким образом, всегда было очень оживленное дебаты в экономической профессии о ценности Модель «рационального действующего лица», лежащая в основе общей теория равновесия.
Одна из первых версий этой дискуссии произошла во время так называемый Methodenstreit между членами австрийской Школа экономики и Немецкая историческая школа.Однако участники «первого поколения» австрийской школы, такие как Карл Менгер, были атомистами (Менгер защищал свой индивидуалистический метод с точки зрения концептуальных выгод, достигнутых за счет «сокращения сложных явления к их элементам »[Menger 1883, 93]). Это было только представители второго поколения, в первую очередь Фридрих фон Хайека, которые явно отождествляли себя с веберианцами. учение о методологическом индивидуализме и защищать его через ссылка на требования интерпретирующей социальной науки.Ключевой текст это статья Хайека «Сциентизм и изучение общества», издано в журнале Economica (1942–44), а позже опубликовано как первая часть Контрреволюция науки (1955).
По мнению Хайека, стремление социологов к подражание физическим наукам создает преувеличенный страх перед телеологические или «целевые» концепции. Это приводит к тому, что многие экономистам избегать любых ссылок на намеренные состояния и сосредотачиваться чисто на основе статистических корреляций между экономическими переменными.В Проблема с этим фокусом в том, что он оставляет экономические явления неразборчиво. Возьмем, к примеру, движение цен. Можно заметьте постоянную корреляцию между датой первых заморозков и колебания цен на пшеницу. Но на самом деле мы не понять феномен, пока он не будет объяснен в условия рациональных действий экономических агентов: ранние заморозки снижает урожайность, что ведет к менее интенсивной ценовой конкуренции между поставщиков, больше среди потребителей и т. д.Таким образом, Хайек настаивает на том, что в эффект, весь макроэкономический анализ неполон в отсутствие «Микро» основы.
Однако важно отметить, что, хотя у Хайека есть модель рациональное действие как центральный элемент его взглядов, его наиболее категорически не форма рационализма. Напротив, он ставит особый упор на то, как различные экономические явления могут возникают как непредвиденные последствия рационального действия. Несмотря на то результаты, которых достигают люди, могут не иметь ничего общего с теми что они предназначались, по-прежнему важно знать, что они думали, что они делают, когда они решили продолжить курс действий, которые они выбрали — не в последнюю очередь потому, что важно знают, почему они упорствуют в таком образе действий, несмотря на тот факт, что это не приводит к ожидаемым последствиям.
Конечно, часть мотивации Хайека одобрить методологические индивидуализма и требуя, чтобы социально-научные объяснения определить механизм на теоретико-практическом уровне: он хочет подчеркивать ограничения индивидуального актера перспектива. Можно говорить о таких макроэкономических переменных, как «Уровень инфляции», но важно помнить, что отдельные участники (вообще говоря) не реагируют напрямую на такие индикаторы. Все, что они видят, это изменения в текущих ценах. что они должны платить за производственные ресурсы или потребительские товары, и это то, на что они отвечают.Масштабные последствия выбор, который они делают в ответ на эти изменения, в значительной степени непреднамерен, и поэтому любая закономерность в этих последствиях представляет собой спонтанный порядок. Это ключевой элемент аргументации Хайека, основанной на информации. для капитализма: экономические субъекты не имеют доступа к тем же информации как экономических теоретиков, таким образом, это только тогда, когда мы видим операции экономики через их глаза, которые мы можем начать видеть преимущества децентрализованной системы координации, такие как рынок.
Чтобы проиллюстрировать важность точки зрения человека, Хайек приводит пример процесса, который приводит к развитию тропинка в лесу. Один человек прокладывает себе путь, выбирая маршрут с наименьшим локальным сопротивлением. Его проход сокращается, хоть немного, но сопротивление оказывалось на этом пути к следующему человек, который ходит, поэтому делает такой же набор решения, скорее всего, пойдут по тому же маршруту. Это увеличивает шансы что следующий человек сделает это, и так далее.Таким образом, чистый эффект все эти люди проходят через то, что они «делают путь », даже если никто не собирается это делать, и нет можно даже спланировать его траекторию. Это продукт спонтанного приказ: «Передвижение людей по округе соответствует определенный образец, который, хотя и является результатом осознанных решений многих людей, еще никем сознательно не разработан » (Хайек 1942, 289).
Проблема игнорирования точки зрения агента, по мнению Хайека, заключается в что это может легко привести нас к переоценке наших способностей рационального мышления. планирование и контроль и, таким образом, впасть в «рационализм».” Напротив, центральное достоинство методологического индивидуализма — что это помогает нам увидеть ограничения нашего собственного разума (Hayek 1944, 33). Формулирование теорий, непосредственно относящихся к «интересам темп », или« инфляционное давление », или« уровень безработицы »может ввести нас в заблуждение, заставив думать, что мы можем манипулировать этими переменными и, таким образом, успешно вмешиваться в экономия. Мы забываем, что эти концепции — абстракции, используемые не для того, чтобы направлять индивидуальные действия, а скорее описывать чистый эффект миллионы индивидуальных решений.Ключевая характеристика методологический индивидуализм состоит в том, что он «систематически запускает из концепций, которыми руководствуются люди в их действиях, а не по результатам их теоретических рассуждений о своих действиях »(1942, 286). Поэтому, по мнению Хайека, он призывает к большей скромности с уважение к социальному планированию.
Хайек не упоминает о методологическом индивидуализме после 1950-е годы. В самом деле, роль, которую эволюционные объяснения играют в его более поздняя работа подразумевает молчаливое опровержение его приверженности учение.
3. Поиск объяснений «каменного дна»
На протяжении многих лет термин методологический индивидуализм ассоциировался в первую очередь с работами Карла Поппера. Это связано с обширным споры, вызванные статьями Поппера «Бедность Историзм »(1944/45), а затем его книга Открытое общество. и его враги (1945). Поппер, однако, хотя и использовал термин, мало что сделал для защиты его приверженности ему. Вместо этого он ушел эту работу своему бывшему ученику Дж.W.N. Watkins. Это была дискуссия между Уоткинсом и его критиками, которые (возможно, несправедливо) укрепили ассоциация в умах многих людей между Поппером и методологическими индивидуализм. (Именно эти дебаты привели учение к всеобщее внимание философов.)
К сожалению, версия методологического индивидуализма Поппера завещанный своему ученику Уоткинсу было значительно труднее защищать, чем тот, который он унаследовал от Хайека. С самого начала считалось, что принципы методологического индивидуализма налагается особыми требованиями социальных наук.Для обоих Вебера и Хайека, это было отражением ключевого различия между Geisteswissenschaften и Naturwissenschaften . Поппер, однако, отрицает существование любые существенные методологические различия между ними. Верно, его первоначальное обсуждение методологического индивидуализма в «The Бедность историзма »встречается в разделе« The Единство метода », в котором он утверждает, что оба просто находятся в дело «причинного объяснения, предсказания и тестирование.»(1945, 78). Он продолжает отрицать это «Понимание» играет особую роль в социальном науки.
Проблема, которую это создает для доктрины методологического индивидуализм очевиден. Социальная наука, цель которой интерпретация, или которая использует интерпретацию как часть центральной части объяснительной стратегии, имеет очень ясную методологическую причину для привилегированных объяснений, относящихся к отдельным действиям — поскольку именно лежащие в основе интенциональные состояния служат объект интерпретации.Но если социологи просто в бизнес по предоставлению причинных объяснений, как естественный ученых, тогда каково обоснование привилегии отдельных действия в этих объяснениях? Кажется, больше нет методологические причины для этого. Таким образом, критики, такие как Леон Гольдштейн (1958), а позже Стивен Льюкс (1968) утверждали, что методологический индивидуализм на самом деле был лишь косвенным способом утверждение приверженности метафизическому или онтологическому индивидуализм.Другими словами, «методологические индивидуализм »на самом деле было заявлением о том, что мир «На самом деле» состояло не более чем из причудливого способа говоря, что «общества не существует». Уоткинс пошел чтобы усилить это впечатление, переформулируя тезис как утверждают, что «основные составляющие социального мира отдельные люди »(1957, 105).
Уоткинс также вызвал сомнения в методологическом статусе исследования. принцип, проводя различие между «незавершенным» и «незавершенным» объяснения »социальных явлений, которые могут не указывать теоретико-действенный или индивидуалистический механизм, и так называемые «Глубинные объяснения», которые могли бы (1957, 106).Все же при этом он допускает, что эти промежуточные объяснения (пример он дает взаимосвязь между инфляцией и безработицей. рейтинг), хотя они могут не сказать нам все, что мы хотели бы знать, не должно быть бессмысленным или ложным. Это создает проблемы, как сказал Ларс Уден. указывает, поскольку сам факт, что один может объяснить социальные явления с точки зрения индивидов «не подразумевает методологическое правило, что они должны быть объяснены таким образом » (2001, 216) — особенно если «на полпути» полученных знаний достаточно для нашего (вненаучного) целей.
Наконец, следует отметить, что Поппер ввел контраст между методологический индивидуализм и «психологизм», т. е. точка зрения, что «все законы социальной жизни должны быть в конечном итоге сводимы психологическим законам «человеческой природы» (1945, 89). Тем не менее, по формулировке Поппера, методологические индивидуализм кажется эквивалентным по крайней мере некоторой форме психологический редукционизм. По крайней мере, его формулировка — и позже Уоткинс — оставил многих комментаторов в недоумении по поводу того, как мог подтвердить первое, не придерживаясь второго (Udehn 2001, 204).В более общем плане это создало большую путаницу в отношении разницы между методологическим индивидуализмом и атомизмом (Hodgson 2007, 214).
4. Возрождение рационального выбора
И для Хайека, и для Поппера основной мотивацией уважения заветы методологического индивидуализма состояли в том, чтобы избегать «великих теория »в стиле Огюста Конта, G.W.F. Гегель и Карл Маркса. Тем не менее, побуждение к тому, чтобы избежать такой великой теории, было не столько потому, что это продвигало плохую теорию, сколько потому, что это продвигало привычки разума, например «коллективизм», «Рационализм» или «историзм», которые были считается, что способствует тоталитаризму.Таким образом, грехи «Коллективизм» и «коллективистская» мысль Паттерны, как для Хайека, так и для Поппера, были в первую очередь политическими. Тем не менее, как время шло, и опасность ползучего тоталитаризма в западных странах общества становились все более отдаленными, страх коллективизма, который лежали в основе дебатов о методологическом индивидуализме. все более тускнеет.
Таким образом, беспокойство о методологическом индивидуализме начало исчезать, и мог бы полностью исчезнуть, если бы не внезапное взрыв интереса к теории игр (или «рациональный выбор теория ») среди социологов в 1980-е годы.Причина для это можно описать двумя словами (и статьёй): заключённый дилемма. Социологи всегда знали, что люди в группы способны застрять в паттернах коллективного саморазрушительное поведение. Пол Самуэльсон «Чистая теория Государственные расходы »(1954),« Трагедия »Гаррета Хардина. Палаты общин »(1968), и работа Манкура Олсона « Логика Коллективное действие (1965) предоставило очень четкие примеры случаи, когда простое наличие общих интересов среди людей тем не менее не смог обеспечить им стимул к выполнению действия, необходимые для реализации этого интереса.Что за история дилемма заключенного и, что более важно, сопутствующая игра матрица — предоставлена была простая, но мощная модель, которую можно было используется для представления структуры всех этих взаимодействий (см. Р. Хардин 1982).
Это, в свою очередь, дало новый импульс методологическому индивидуализму, потому что это позволяло теоретикам ставить диагноз с беспрецедентной точностью ошибки, к которым социальные теоретики могли (и часто приводили), если бы они игнорировали теоретический уровень анализа.Методологические стал важным индивидуализм, а не как способ избежать политического мысленное преступление «коллективизма», а скорее как способ избегая явно ошибочных выводов о динамике коллективное действие. Например, традиционный «интерес групповая »теория демократической политики обычно предполагает, что группы, разделяющие общие интересы, также имеют стимул продвигать этот интерес, лоббируя политиков, финансируя исследования и т. д. на. Главный вклад Олсона заключался в том, чтобы довести до конца мысль о том, что наличие такого общего интереса так же часто порождает поощрение безбилетников.Частным лицам было бы полезно продвигать этот интерес, но они выиграют даже на больше , если будут сидеть назад, в то время как другие участники группы действовали для его продвижения. Как результат, никто не может действовать для его продвижения. Однако Олсон ограничился этим наблюдение за большими группами. С другой стороны, дилемма заключенного. рука, продемонстрировала повсеместность этой структуры стимулов.
Вклад Джона Эльстера в историю методологической на этом фоне следует понимать индивидуализм.Он представляет доктрина как часть дружеской, но резкой критики использования функционалистских объяснений в марксистской традиции; особенно те, кто пытается объяснить события как те, которые «служат интересы капитала ». Проблема с этими объяснениями, Эльстер утверждает, что они « постулируют цель без целенаправленный субъект »(1982, 452), и поэтому (он утверждает) влекут за собой приверженность некоторой форме объективной телеологии. В себе, в этой критике очень мало нового.Как отмечает Г.А. Коэн утверждал, что в его ответ Эльстеру, нет причин, по которым марксист функционалист не может дать «уточнений» (Cohen 1982, 131) этих объяснений, которые определяют, как выгода произведенный вызывает явление, без ссылки на какую-либо цель телеология. Это можно было сделать либо путем обращения к преднамеренному механизм на уровне теории действия или же дарвиновский Механизм «отбора» (Коэн 1982, 132). В таких случаях, Критика функционального объяснения Эльстером становится просто еще одним версия спроса Уоткинса на «дно», а не на «Половинчатые» объяснения.
Таким образом, атака Эльстера была столь сильной не из-за обвинений в объективная телеология в марксистской теории, а скорее предположение, что большая часть марксистского «классового анализа» упускает из виду потенциал для проблем коллективных действий среди различных всемирно-исторических актеры. Рассмотрим, например, известное утверждение, что капиталисты сохранить «резервную армию безработных», чтобы снизить заработную плату. Это означает, что отдельные капиталисты должны перестать нанимать новых работников в момент, когда предельные выгоды все еще превышают предельные издержки.Что у них для этого стимул? У них есть очевидный стимул для безбилетников продолжать нанимать, поскольку выгоды из-за заниженной заработной платы в основном будут пользоваться конкурирующими фирмами, тогда как выгоды от дальнейшего найма будут влиять на чистую прибыль. Другими словами, тот факт, что это отвечает «интересам капитал »иметь резервную армию безработных не означает что у отдельных капиталистов есть стимул предпринять шаги необходимо поддерживать такую резервную армию.
Еще более тревожное следствие «рационального выбор »- это наблюдение, что рабочий класс сталкивается с серьезной проблемой коллективных действий, когда дело доходит до выполнения социалистическая революция (Elster 1982, 467).Разжигание революции может быть опасным бизнесом и, следовательно, отсутствовать какой-либо другой стимул (например, классовая солидарность), даже рабочие, которые были уверены, что коммунист экономический порядок мог бы предложить им более высокое качество жизни. не появляться на баррикадах. Однако эти возможности были в значительной степени игнорируется, предполагает Эльстер, потому что неуважение заповеди методологического индивидуализма, наряду с беспорядочными связями использование функционального объяснения привело поколения марксистских теоретики просто игнорируют фактические стимулы, с которыми сталкиваются люди в конкретных социальных взаимодействиях.
Помимо критики функциональных объяснений, Эльстер не выдвигать любые оригинальные аргументы в поддержку методологических индивидуализм. Однако он возвращается к более раннему веберианскому формулировка позиции с упором на умышленное действие (Elster 1982, 463): «Элементарная единица социальной жизни — это индивидуальное человеческое действие », — утверждает он. «Чтобы объяснить социальные институтов и социальных изменений — показать, как они возникают в результате действий и взаимодействия людей.Этот взгляд, часто называемый методологическим индивидуализмом, на мой взгляд, тривиально правда »(Эльстер, 1989, 13). Здесь следует предположить, что когда он говорит «Тривиально верно», он использует термин в просторечии чувство «банальности», а не философское чувство «тавтологичности», поскольку он продолжает выводить ряд очень существенных доктрин из его приверженности методологический индивидуализм. Например, он продолжает претендовать на различные моменты, которые методологический индивидуализм обязывает его психологический редукционизм по отношению к социологии (хотя он не предлагает аргументов в пользу этого утверждения).
Эльстер не проводит столь резких различий, как мог бы. между приверженностью методологическому индивидуализму и приверженность теории рационального выбора. В самом деле, он также предполагает, что последний вытекает непосредственно из первого. Версия рационального выбора Однако теория, которую поддерживает Эльстер, основана на традиционная инструментальная (или homo economicus ) концепция рациональность, согласно которой «действия оцениваются и выбираются не для себя, а как более или менее эффективное средство дальнейший конец »(Эльстер 1989, 22).Он утверждает, что эта концепция рациональности подразумевается тем фактом, что теоретики принятия решений способны представлять рациональные действия любого агента, обладающего правильное упорядочение предпочтений как максимизация полезности функция. Однако подразумевает ли максимизация полезности инструментализм? зависит от версии теории ожидаемой полезности, которую подписывается на. Так называемые «мировые байесовские» версии теория принятия решений, такая как Ричард Джеффри (1983), не навязывает инструментальная концепция рациональности, поскольку они позволяют агентам иметь предпочтения перед собственными действиями.Таким образом, переход Эльстера от методологического индивидуализма инструментальной концепции рациональность основана на non sequitur .
Тем не менее, в результате аргументов Эльстера методологические индивидуализм во многих кругах стал синонимом приверженности к теории рационального выбора. Такое уравнение обычно не справляется. различить то, что было для Вебера двумя отдельными методологическими проблемами: стремление давать объяснения на теоретическом уровне действия, и конкретная модель рационального действия, которую предлагается использовать в этот уровень (т.э., идеальный тип). Есть несколько перестановки. Например, нет причин, по которым нельзя быть методологический индивидуалист, выбирая работу Хабермаса теория коммуникативного действия, а не теория рационального выбора, как модель рационального действия. На самом деле, это имело бы больший смысл, поскольку строго истолкованная теория игр никогда не предлагала общая теория рационального действия. Концепция решения Нэша, которая дает стандартное определение теоретико-игрового равновесия, специально исключены все формы общения между игроками (и решение не работает в тех случаях, когда общение вторгнуться [Heath 2001]).Таким образом, большая часть шумихи по поводу рационального выбора империализм был основан на непонимании ограничений этой модели (во многих случаях как ее защитниками, так и ее критики).
5. Другое использование термина
В философии разума фраза «методологические индивидуализм »обычно ассоциируется с утверждением Джерри Фодор об индивидуации психологических состояний (1980, 1987, 42). Важно подчеркнуть, что использование Фодором термина не имеет ничего общего с его традиционным использованием в философии социальная наука.Фодор вводит его, проводя различие между «Методологический индивидуализм» и «методологический солипсизм.» Его цель — разобраться с вариациями на проблема двойной земли, представленная Хилари Патнэм. Вопрос в том ли человек с верой в воду на земле, где вода состоит из H 2 O, имеет то же убеждение , что и человек с верой в воду в параллельной вселенной, где вода имеет такой же внешний вид и поведение, но бывает составной из XYZ.«Экстерналист» — это тот, кто говорит, что они не то же самое, в то время как «интерналист» вроде Фодора хочет говорят, что они — грубо говоря, что содержание убеждения определяются тем, что находится в голове агента, а не тем, что в мире.
Проблема сводится к вопросу об индивидуализации ментального состояния. Как определить, что является «одинаковым», а что — нет вера? Фодор начинает с введения ограничения, которое он называет «Методологический индивидуализм», а именно «доктрина что психологические состояния индивидуализированы в зависимости от их причинные силы »(1987, 42).Это подразумевает, среди прочего, вещи, которые, если одно психологическое состояние неспособно вызвать может случиться что-то иное, чем какое-либо другое психологическое состояние, тогда эти два должны быть одинаковыми. «Методологический солипсизм» — это более сильное утверждение, что «психологические состояния индивидуализированы без учета семантических оценок »(1987 г., 42). Это означает, среди прочего, что даже если одно состояние «Истина» в каком-то контексте, а другой — «ложь», эти двое могут оказаться одинаковыми.Как продолжает Фодор, вне, семантическая оценка психического состояния обычно реляционный, например верны ли определенные представления о воде будет зависеть от того, как обстоят дела с водой в мире; таким образом методологический солипсизм ведет к исключению одного типа реляционное свойство, играющее роль в индивидуализации ментального состояния. Следовательно, это «индивидуалистично» в повседневной жизни. смысл этого термина, поскольку он предполагает, что то, что происходит в голова агента выполняет большую часть или всю работу по индивидуализации психические состояния.С другой стороны, методологический индивидуализм, « не запрещает реляционную индивидуализацию ментального заявляет ; это просто говорит о том, что нет свойства психических состояний, относительный или иной, считается таксономически, если только он не влияет на причинно-следственные связи. силы »(1987, 42). Таким образом, очень неясно, почему Фодор предпочитает называют это формой «индивидуализма», поскольку эти отношения также может быть отношение к другим говорящим, а не только физическое слово.
В выборе терминов Фодором есть большая неудача.Он может предложить убедительное объяснение того, почему методологический индивидуализм считается методологическим ограничением. Он утверждает, что желание согласовать терминологические различия с объектами, имеющими разные причинные полномочия — это «тот, который просто следует из цели ученого: причинное объяснение и, следовательно, все научные систематики должен подчиняться »(1987, 42). Таким образом, это методологический заповедь. (Хотя здесь отчетливо виден резкий контраст между Использование термина Фодором и Вебером или Хайеком, для которых способность социолога предоставить что-то сверх простое причинное объяснение было тем, что навязывало методологическое приверженность теоретико-практическому уровню анализа.) Это просто Непонятно, почему Фодор предпочитает называть это индивидуализмом. С методологический солипсизм, с другой стороны, можно понять, почему он называет это солипсизм, но непонятно, что делает его методологическим. Верно, Далее Фодор заявляет, что «солипсизм (истолкованный как запрещающий относительная таксономия ментальных состояний) отличается от индивидуализма в что это никак не могло быть следствием каких-либо общих соображений о научных целях и практике. «Методологические солипсизм »- это, по сути, эмпирическая теория о разум.”(1987, 43). Таким образом, когда Фодор использует эти термины, «Методологический индивидуализм» на самом деле не индивидуалистический, и «методологический солипсизм» не действительно методологический.
6. Критика
Значительная часть критического обсуждения методологического индивидуализма в философия социальных наук касается отношения между тем, что Уоткинс назвал объяснения «беспросветными» и «На полпути» — или те, которые делают, и те, что делают не указывать теоретический механизм действия. В общем, нет вопрос, который, учитывая какое-либо конкретное половинчатое объяснение социальной явления, всегда было бы хорошо знать, какие агенты мышления, когда они выполняют действия, которые вовлечены в производство этого явления.Вопрос в том, есть ли объяснение как-то несовершенно , или ненаучно, в отсутствие этого Информация. Ответ на этот вопрос будет зависеть от того, более широкие обязательства относительно статуса и роли социальных науки. Тем не менее, стоит отметить два очень распространенных типа социально-научные исследования, которые не обеспечивают своего рода фундаментальные объяснения того, что методологический индивидуализм требований:
6.1 Статистический анализ
Рассмотрим следующий пример социально-научных дебатов: 1990-е годы резко сократилось количество насильственных преступлений в Соединенные Штаты.Многие социологи, естественно, начали применять на вопрос, почему это произошло, т.е. чтобы объяснить явление. Был выдвинут ряд различных гипотез. продвинутый: наем большего количества полицейских, изменения в охране общественного порядка практики, более строгие правила вынесения приговоров для правонарушителей, сократились терпимость к мелким проступкам, рост религиозности, упадок в популярности крэка, изменения в демографическом профиле населения и т. д. Поскольку снижение преступности произошло во многих юрисдикции, каждая из которых использует различные комбинации стратегий при разных обстоятельствах можно заручиться поддержкой различные гипотезы посредством чисто статистического анализа.Например, идея о том, что стратегии полицейской деятельности играют важную роль, противоречит тому факту, что Нью-Йорк и Сан-Франциско приняли очень разные подходы к охране правопорядка, но снижение уровня преступности. Так разгорелась изощренная дискуссия, с разными социологами, производящими разные наборы данных, и по-разному перебирая числа в поддержку своего соперника гипотезы.
В этой дискуссии, как и почти в любой криминологической дискуссии, отсутствует микрофундаменты.Непременно было бы неплохо узнать, что происходит через сознание людей, когда они совершают преступления, и, следовательно, насколько вероятно различные меры должны изменить их поведение, но факт в том, что мы делаем не знаю. Действительно, среди криминологи, что «общая теория» преступления возможно. Тем не менее, мы легко можем представить себе криминологи, решившие что один конкретный фактор, такой как демографический сдвиг в населения (то есть меньше молодых мужчин), составляет объяснение конец 20-го, -е, век, спад насильственной преступности в США, и исключая другие гипотезы.И хотя это может быть «половинчатое» объяснение, нет вопросов что это будет подлинное открытие, которое мы могли бы узнать что-то важное от.
Кроме того, не очевидно, что «крайний предел» объяснение — то, которое удовлетворяет предписаниям методологический индивидуализм — добавлю что-нибудь очень интересны «половинчатому» объяснению, предоставленному статистический анализ. Во многих случаях это даже будет производным от Это. Предположим, что мы обнаружили с помощью статистического анализа, что уровень преступности варьировался в зависимости от строгости наказания умноженное на вероятность задержания.Тогда мы бы сделали вывод из этого , что преступники были рациональными максимизаторами полезности. На с другой стороны, если бы исследования показали, что уровень преступности полностью не затронуты изменением строгости наказаний или вероятность опасения, мы сделаем вывод, что что-то еще должно продолжаться на теоретико-практическом уровне.
Результаты на уровне теории действия также могут оказаться случайными или случайными. неинтересно, с точки зрения толкования переменные. Предположим, окажется, что снижение преступности может быть полностью объясняется демографическими изменениями.Тогда это не совсем независимо от того, что думали преступники — важно просто что определенный процент любой данной демографической группы имеет мысли, которые приводят к преступному поведению, поэтому меньше таких людей означает меньшее количество преступлений. Мотивы остаются внутри «черного коробка »- и хотя было бы неплохо узнать, что это за мотивы есть, они не могут ничего способствовать этому конкретному объяснение. В конце концов, может оказаться, что каждое преступление уникально. как преступник. Итак, пока есть конкретное объяснение с точки зрения реальные намеренные состояния людей, ничего нельзя сказать на уровне общей «модели» рационального действия.(В В этом контексте важно помнить, что методологические индивидуализм в веберовском смысле объясняет действия с точки зрения модель агента, а не реальные мотивации реальных чел.)
6.2 Непреднамеренные объяснения
Рассмотрим еще одну социально-научную дискуссию, на этот раз полемику над данными, показывающими, что приемные родители гораздо более склонны убивать совсем маленьких детей на их попечении, чем биологические родители. Что могло бы быть связано с предоставлением фундаментального объяснения для этого явления тот, который удовлетворял предписаниям методологической индивидуализм? Насколько это было бы информативным? Это не займет много времени попытка представить, что думают люди, когда они трясут ребенка или ударил малыша.Мотивы слишком знакомы — почти каждый испытывает приступы сильного разочарования или гнева, когда иметь дело с детьми. Но это явно не объясняет явление. Вопрос в том, почему одной группе систематически не удается осуществлять контроль над этими порывами насилия по сравнению с некоторыми другими группа. Поскольку очень немногие делают это в рамках хорошо продуманного плана, неясно, будет ли объяснение доступно на уровень намеренных состояний или даже дополнительный счет того, что происходит на этом уровне, будет хоть немного информативный.Проблема в том, что поведение порождается предубеждениями. которые функционируют почти полностью на субинтенциональном уровне (Sperber, 1997). Это говорит о том, что объяснение с точки зрения намеренного штатов не совсем «дно», но что есть более глубокие слои, которые нужно исследовать.
Нетрудно представить, как такое объяснение могло бы бегать. Люди испытывают реакцию на ювенильную (или неотенозную) характеристики молодых, что в значительной степени непроизвольно. Этот реакция очень сложна, но одной из ее основных характеристик является подавление агрессии.Люди также довольно бедны в формулируя основу этой реакции, кроме повторения ссылки на то, что ребенок «милый». Из Конечно, общая сила этой реакции варьируется от индивидуальной индивидуально, и конкретная сила варьируется в зависимости от дети. Таким образом, возможно, что биологические родители просто найдут их собственные дети «милее», чем приемные родители, и это это приводит к несколько более низкой средней склонности к совершению акты агрессии против них.Потому что они не могут сформулировать на основе этого суждения любой анализ на преднамеренном уровне будет просто не могут дать много объяснений их действия.
Более того, казалось бы, что гораздо более «глубокие» объяснения из этих поведенческих тенденций. Совершенно очевидно, что есть доступный эволюционный счет, который объясняет родительские инвестиции с точки зрения инклюзивной приспособленности (а также объясняет «новый друг детоубийство »с точки зрения полового отбора).Из-за этого, сторонники методологического индивидуализма открыты для обвинения в том, что они продвигают половинчатые объяснения, и что эволюционные перспектива предлагает самые низкие. В более общем смысле, любая теория, которая стремится объяснить происхождение наших интенциональных состояний с точки зрения более глубокие причины, или которые претендуют на объяснение большей части человеческих поведение без ссылки на интенциональные состояния (например, фрейдизм, который рассматривает многие наши убеждения как рационализацию, наши желания как сублимации), не будет затронута методологическим индивидуалистическим подходом. требовать, чтобы особое место занимали объяснения, сформулированные на теоретико-действенный уровень.
6.3 Устойчивость к микрореализации
Кристиан Лист и Кай Шпикерманн (2013) недавно утверждали, что «Причинно-объяснительный холизм» требуется в социальном науки при очень точном стечении обстоятельств. Их общий Считается, что описания обычно могут быть сформулированы на разных уровни общности, и что при определенных обстоятельствах может быть больше помогает формулировать объяснения с использованием понятий на более высоком, а не более высоком уровне. чем на более низком уровне общности.Это особенно верно, когда свойство более высокого уровня может быть создано различными способами, но некоторые причинная связь, в которую он встроен, продолжает возникать независимо от того, конкретного экземпляра (условие, которое они называют «Микрореализация-робастность»). Это говорит о том, что методологический индивидуализм не будет уместен в тех случаях, когда «Социальные закономерности устойчивы к изменениям в их реализация на индивидуальном уровне »(629). В таких условиях Требуется «объяснительный холизм».Лист и Шпикерманн укажите три «совместно необходимых и достаточных условия »(639), при которых это будет так:
Несколько уровней описания: Система допускает нижний и верхний уровни описания, связанные с разными свойства, зависящие от уровня (например, свойства индивидуального уровня по сравнению с совокупные свойства).
Множественная реализация высокоуровневых свойств: Система свойства более высокого уровня определяются его свойствами более низкого уровня, но могут быть реализованы с помощью множества различных конфигураций из них и следовательно, невозможно переопределить в терминах нижнего уровня характеристики.
Микрореализация-устойчивые причинно-следственные связи: Причинно-следственные связи в котором некоторые высокоуровневые свойства системы устойчивы к изменениям в их реализации нижнего уровня.
В качестве примера они приводят «гипотезу демократического мира» (2013, 640), что демократии не воюют друг с другом. Обычно это объяснены с точки зрения внутренних структурных особенностей демократий, которые привилегированные нормы сотрудничества и компромисса. Однако есть так много способов реализации этих функций, объяснение которых более низкий уровень описания, например, индивидуального, будет не в состоянии сформулировать соответствующую причинно-следственную связь.
6.4 Заблуждения
Основная методологическая причина социологов для принятия приверженность методологическому индивидуализму должна была предостеречь от определенные заблуждения (те, которые были довольно распространены в 19-е гг. века обществознания). Возможно, самым большим из этих заблуждений было тот, который основан на широко распространенной тенденции игнорировать потенциал проблемы коллективных действий в группах, и поэтому двигаться слишком легко «Вниз» от определения группового интереса к приписывание индивидуального интереса.Один из способов избежать таких заблуждения должны были заставить социологов всегда смотреть на взаимодействия с точки зрения участника, чтобы увидеть, какие структура предпочтений определяла его или ее решения.
В то же время стоит отметить, что слишком большой упор на Теоретическая перспектива может порождать собственные заблуждения. Один из наиболее мощным ресурсом социологического исследования является именно способность объективировать и агрегировать социальное поведение, используя сбор и анализ крупномасштабных данных.Анализ социальные явления на этом уровне часто могут давать результаты, которые нелогично с точки зрения теории действия. Слишком много упор на теоретико-практическую перспективу из-за ее близости здравому смыслу, может генерировать ложные предположения о том, что должно быть происходит на агрегированном уровне. Как отмечает Артур Стинчкомб в своей классическая работа, Конструирование социальных теорий , конструирование «Демографические объяснения» социальных явлений часто требует разрыва с нашей повседневной интерпретационной точкой зрения.Слишком много сосредоточение внимания на индивидуальном отношении может привести нас к незаконным обобщения характеристик этих установок в группах (1968, 67). Например, стабильность веры в популяции только очень редко зависит от его устойчивости у индивидуумов. Там может быть значительной нестабильностью на индивидуальном уровне, но пока это действует с одинаковой силой в обе стороны, его распространенность среди населения будет без изменений (68). Если десять процентов населения потеряют веру в Боге каждый год, но десять процентов имеют опыт обращения, тогда общий уровень религиозности не изменится.Это может кажутся очевидными, но, как замечает Стинчкомб, «интуитивно трудно для многих »(67), а невнимание к этому — общий источник ошибочного социологического мышления.
Также стоит отметить, что теоретико-практический уровень анализа фокусируясь на интенциональных состояниях агента, может генерировать значительный вред при случайном сочетании с эволюционным рассуждения. Наиболее распространенное заблуждение возникает, когда теоретики рассматривают «Личный интерес» человека, определенный в отношении его или ее предпочтения, как замена «пригодности» конкретное поведение (или фенотип), будь то биологическое или культурный уровень, то предполагает, что существует некий механизм отбора в место, опять же на биологическом или культурном уровне, которое отсеять формы поведения, которые не способствуют развитию личности своекорыстие.Проблема в том, что ни биологический, ни культурный эволюция функционирует таким образом. Это элементарное следствие Теория «эгоистичного гена», согласно которой биологическая эволюция не продвигать интересы агента (наиболее ярким примером является инклюзивный фитнес). По тем же причинам культурная эволюция приносит пользу «мем», а не интересы агента (Станович 2004). Таким образом, эволюционная перспектива требует много больший разрыв с рациональной перспективой, чем многие социальные теоретики ценят.Таким образом, методологический индивидуализм иногда может препятствуют радикальной объективизации социальных явлений, которые требует использования определенных социотеоретических моделей или инструментов.
Экспрессивный индивидуализм: что это такое?
Ранее в этом году я определил четыре больших вызова, с которыми сегодня сталкивается церковь на Западе. Мы тщательно изучили проблему социальной фрагментации и политической поляризации. Теперь обратим наше внимание на реальность культуры, наводненной тем, что часто называют «экспрессивным индивидуализмом».”
Что такое экспрессивный индивидуализм?Эта колонка станет первой в серии, посвященной выразительному индивидуализму. Наша единственная цель здесь — вкратце ответить на вопрос: «Что такое экспрессивный индивидуализм?» Позже мы рассмотрим, как церковь может жить как соль и свет в такой культуре.
При определении выразительного индивидуализма лучше всего начать с лозунгов, стоящих за движением:
- Ты будешь собой.
- Будьте верны себе.
- Следуй своему сердцу.
- Найди себя.
Слоганы ориентируют нас на философию в массовой культуре. История указывает нам, откуда это произошло. Роберт Белла и социологи, написавшие навыков сердца , прослеживают истоки экспрессивного индивидуализма еще в 1800-х годах. Авторы указывают на писателя и поэта Уолта Уитмена как на одного из лучших представителей философии.
«Индивидуализм» уходит корнями в прошлое. Алексис де Токвиль, француз, который много путешествовал по Соединенным Штатам, а затем написал классический Демократия в Америке , отметил определенные черты американского индивидуализма, в котором экспрессивная часть выросла позже. Вот что он сказал об индивидуализме и его изоляционистских тенденциях:
«Индивидуализм — это спокойное и взвешенное чувство, которое побуждает каждого гражданина изолироваться от массы своих собратьев и уйти в круг семьи и друзей; с этим маленьким обществом, сформированным по его вкусу, он с радостью предоставляет большему обществу заботу о себе.”
Это более раннее описание индивидуализма и изоляции, которых опасался Токвиль. . А как насчет экспрессивного индивидуализма? К чему это относится? Юваль Левин в The Fractured Republic хорошо описывает это:
Этот термин подразумевает не только желание следовать собственным путем, но и стремление к самореализации через определение и артикуляцию собственной идентичности. Это стремление как быть более похожим на то, чем вы уже являетесь, так и жить в обществе, полностью утверждая, кто вы есть.Способность индивидов определять условия своего собственного существования, определяя свою личную идентичность, все чаще приравнивается к свободе и значению некоторых из наших основных прав, и ей отводится почетное место в нашем самопонимании.
Возраст подлинности
Есть аналогичное определение, данное католическим философом Чарльзом Тейлором, который использует в качестве дескриптора «возраст аутентичности». Мы могли определять «подлинность» по-разному. Когда мы говорим о «подлинности» как о противоположности «лицемерию», тогда стремление к подлинности становится хорошим делом.(Иисус много говорил о лицемерах и обмане, скрывающем недостоверность.)
Но Тейлор не использует «подлинность» как синоним целостности или честности. Он использует этот термин таким образом, чтобы противопоставлять подлинность соответствию . Вот определение Тейлора:
Я имею в виду понимание жизни, которое возникает благодаря романтическому экспрессивизму конца восемнадцатого века, что у каждого из нас есть свой собственный способ осознать свою человечность, и что важно найти и прожить свою собственную, в отличие от подчинения модели, навязанной нам извне, обществом, предыдущим поколением, религиозным или политическим авторитетом .
Ключевым моментом здесь является то, что цель жизни состоит в том, чтобы найти свое самое сокровенное «я», а затем выразить это миру, выковав эту идентичность способами, которые противоречат всему, что могут сказать семья, друзья, политическая принадлежность, предыдущие поколения или религиозные авторитеты. (Во многих фильмах Диснея сюжетная линия повествования состоит в том, что кто-то находит и формирует самоидентификацию в противовес скептикам.)
Семь утверждений веры в западной культуре
Как только мы поймем термин «экспрессивный индивидуализм», полученный от Белла и его коллег-социологов, а также «Век аутентичности» по определению Тейлора, мы начнем видеть элементы этого мировоззрения и то, как оно влияет на жизнь в сегодняшних западных обществах. .
Здесь лидер австралийской церкви Марк Сэйерс услужливо резюмирует несколько верований, которые крутятся в выразительном индивидуалистическом обществе. Эти семь кратких заявлений взяты из книги Сэйерса « Исчезающая церковь».
- Высшее благо — это личная свобода, счастье, самоопределение и самовыражение.
- Традиции, религии, принятая мудрость, правила и социальные связи, ограничивающие индивидуальную свободу, счастье, самоопределение и самовыражение, должны быть изменены, деконструированы или уничтожены.
- Мир неизбежно будет улучшаться по мере того, как растет объем личной свободы. Технологии, в частности Интернет, будут двигать этот прогресс в сторону утопии.
- Первичная социальная этика — терпимость к самоопределенному стремлению каждого к личной свободе и самовыражению. Любое отклонение от этики терпимости опасно и недопустимо. Следовательно, социальная справедливость связана не столько с экономическим или классовым неравенством, сколько с проблемами равенства, связанными с индивидуальной идентичностью, самовыражением и личной автономией.
- Люди хороши по своей природе.
- Крупные структуры и учреждения в лучшем случае подозрительны, а в худшем — злы.
- Формы внешнего авторитета отвергаются, а личная подлинность превозносится.
В следующих статьях мы более подробно остановимся на некоторых из них, поскольку мы рассмотрим, насколько выразительный индивидуализм мешает церкви быть верной сегодня.
Что означает индивидуализм?
Оскар Уайльд:
Искусство — это самая яркая форма индивидуализма , известная миру.
Роберт Д. Ричардсон:
Частью силы индивидуализма Эмерсона является его настойчивое требование в критические моменты о том, что индивидуализм не означает изоляцию или самодостаточность. Это не парадокс, поскольку только сильный человек может откровенно признать иногда удивительную степень своей собственной зависимости.
Ричард Эбелинг:
Кто такой фашист? Индивидуализм и политическая философия ограниченного правительства не только несовместимы с фашизмом и нацизмом, но и являются полной их противоположностью.При фашизме и нацизме государство безраздельно властвует над всеми и всеми формами собственности. Можно спросить: кто такой фашист, когда президент Соединенных Штатов и многие демократы и республиканцы в конгрессе призывают расширить полномочия ФБР и других федеральных служб безопасности, чтобы они вторглись в жизнь американских граждан? Кто такой фашист, когда призывают к усилению полномочий ФБР для проведения «блуждающего прослушивания телефонных разговоров» или облегчения доступа к телефонным записям и записям кредитных карт населения в целом? Кто такой фашист, когда предлагается облегчить ФБР расследование и проникновение в любую политическую организацию или ассоциацию, потому что правительство рассматривает это как потенциальную террористическую опасность?
Алан Симпсон:
Общество, подобное нашему, которое не исповедует ни одной религии и допустило распад всех религий, которое потворствует свободе на грани разрешения и индивидуализму до точки анархии, нуждается во всей поддержке, которая необходима ответственные, ухоженные дома могут обставить.


