Индивидуализм в литературе: Индивидуализм в русской культуре Серебряного века Текст научной статьи по специальности «Философия, этика, религиоведение»
Проблема индивидуализма и тема «сверхчеловека» в мировой литературе
Проблематика в теме раскрытия индивидуализма человека находит свое отражение в литературе конца 19 начала 20 веков. Этот процесс неразрывно связан с зарождением в обществе фашистских и национал социалистических тенденций.
Отсутствие индивидуализма человека в литературе
В этот период человек рассматривается в первую очередь как биологический вид, лишенный чувств, воли, способности мыслить и управлять своей жизнью. В литературе первостепенную роль занимает гражданское общество, но человек, как главная его составляющая отходит на второй план.
Так в произведении О. Шпенглера «Закат Европы», главной темой которой является неизбежное падение западного мира, единственной возможностью предостеречь империи от крушения является введение «казарменного» строя в обществе.
Обычный рабочий завода, по мнению автора, должен исполнять в жизни только свои профессиональные функции, не имея права анализировать политику государства, выражать любые чувства, так как фактически он представляет собой всего лишь машину.
Стоит заметить, что книга пользовалась широкой популярностью среди населения, что в очередной раз доказывало ее автору верность его суждений.
Зарождение представлений о сверхчеловеке
Такая философия была сразу подхвачена знаменитым писателем и философом Фридрихом Ницше в его философских воззрениях. Он считал, что мораль, культура и религия пережитки общества и могут нанести только вред человеку.
В представлении Ницше, человек представлял собой ничтожное существо, которое самостоятельно не способно сделать никакие выводы, касаемо жизни и развития.
Теория отсутствия индивидуализма человека со временем переросла в философию существования сверхчеловека. В своей книге «Так говорил Заратустра» Ницше впервые изложил теорию сверхчеловека, который имеет право насаживать свою волю другим, менее развитым людям.
Согласно философии Ницше, сверхчеловек, благодаря своей власти и уму имеет возможность управлять не только людьми, но и историческими событиями и природными явлениями.
Литературные пропагандисты теории существования сверхчеловека находились и в России. «Сверхчеловек» в руссской литературе. Ярким примером является раннее творчество Вячеслава Иванова, который позже стал идейным вдохновителем поэтов Серебряного века.
В отличие от Ницше, его теория сверхчеловека имела не политическую, а религиозную окраску. Иванов считал, что единственным когда- либо существующим на земле сверхчеловеком был Иисус Христос, а люди никогда не смогут достичь его совершенства и им остается только поклоняться ему. Такое мнение отрицает церковное представление о богоподобности человека.
Инструмент в руках фашистов
Естественно начало такого течения в литературе как нельзя кстати подходило фашистам, которые начали постепенно утверждаться на мировой политической арене.
Они сумели максимально продвинуть идеи Ницше в народные массы, тем самым убедив народ Германии в том, что каждый из них является сверхчеловеком и имеет право господства над другими, более низшими в своем развитии нациями.
Идеи сверхчеловека в литературе смогли подготовить идеальную почву для внедрения планов Гитлера и фактически помогли спровоцировать развязку Второй Мировой войны.
Нужна помощь в учебе?
Предыдущая тема: Солженицын «Один день Ивана Денисовича»: анализ, сюжет, образ
Следующая тема:   Философско-эстетические воззрения Ницше
Проблемы развития образа героя-индивидуалиста в творчестве А. С. Пушкина и Ф. М. Достоевского
Полный текст автореферата диссертации по теме «Проблемы развития образа героя-индивидуалиста в творчестве А. С. Пушкина и Ф. М. Достоевского»
ГОРЪКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО
На правах рукописи УДК 882/ОЭ/»18″П/Д
КНЯЗЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИСЛАВОВИЧ
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗА ГЕРОЯ-ИНДВДШШСТА В ТВОРЧЕСТВЕ А.С.ПУЩИНА И Ф.М.ДОСТОЕВСКОГО
Специальность 10.01.01. — русская литература
АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук
Горький — 1989
у
Работа выполнена на кафедре русской и зарубежной литературы Куйбышевского государственного педагогического института имени В.
кандидат филологических наук, доцент /Ьл| ( Г.С.Зайцева
;етом исследования настоящей диссертации является сходство Äraud A.C. Пушкина и Ф.М. Достоевского на развитие шдивидуа-■истического миросозерцания, которое мы считаем основой идейной и удожественной близости их творчества.
Введя в русскую литературу незнакомый ей прежде образ героя-ндивидуалиста, Пушкин явился первооткрывателем этой темы. Досто-вский по-своему завершил ее, доведя»до последней черты» в худо-ественном отношении и придав ей философскую законченность.
Развитие индивидуалистического мировоззрения уже в первые деся-илетия XIX века поставило ряд сложнейших историко-культурных роблем: непримиримо-враждебные взаимоотношения героя-индшзидуа-иста с окружающими /нередко приводящие к индивидуалистическому унту/, противоречия его национального самосознания и драматичес-эв противостояние индивидуалиста и народа. Глубокое понимание гих проблем Пушкиным и Достоевским ввело тему героя-индивидуалис-1 в их творчестве в широкий исторический и социальный контекст, целав одной из главнейших не только для литературы, но для рус-той и мировой культуры в целом.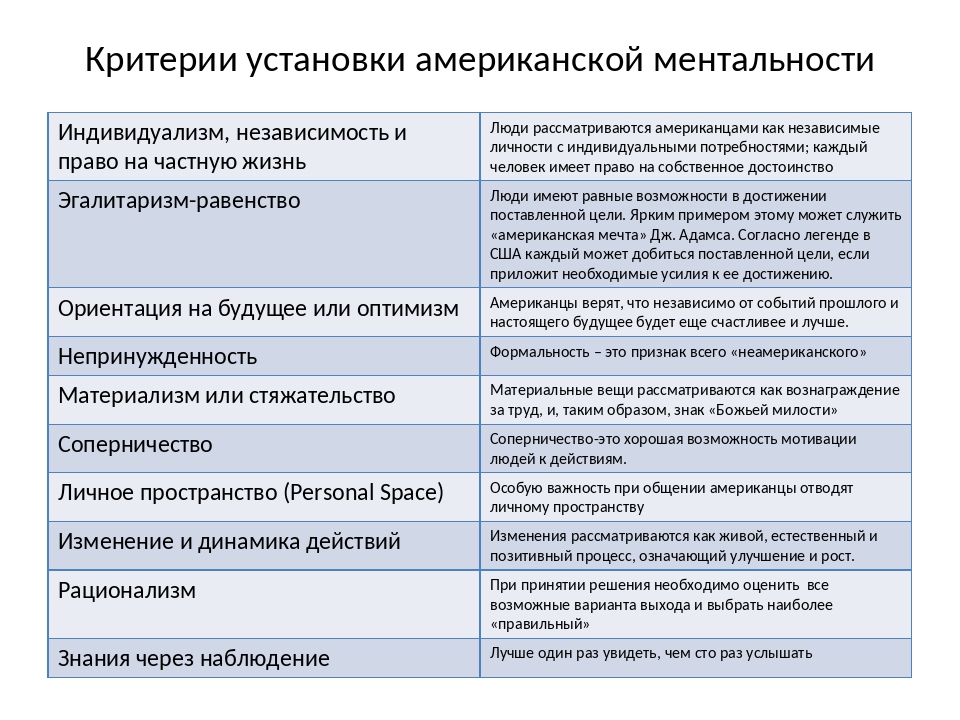
Актуальность теш исследования определяется:
1. Необходимостью осмысления типологического сходства образа фоя-индивидуалиста /наиболее характерных его разновидностей/ в юрчестве Пушкина и Достоевского.
2. Тем исключительным значением, которое в настоящее время >иос5рела проблема индивидуалистического мировосприятия, занимаю-1Я одно из центральных мест в современной критической и философс-й литературе.
Индивидуализму как явлению культуры в XX веке суждено было грать особую ни с чем не сравнимую роль, предвидение чего содер-лось в творчестве Пушкина и Достоевского. Характерно, что по-жденные индивидуалистическим мировосприятием два наиболее звательных философских и литературных течения: ннвдеанство, с его орией «сверхчеловека», прямо или опосредованно дослужившее айной основой тоталитарных режимов, возникавших в различных ранах: и экзистенциализм, с его ощущением трагической обречен-зти личности, — связывали свое развитие с проблемами индивидуа-зтического мировосприятия в творчестве Достоевского,
Осмысление этой теш во всем ее значении в условиях непрерывно зрастающего научного и общественного интереса к творчеству Пуш-ia и Достоевского выходит далеко за пределы собственно литера-юведческих изыскания, становясь настоятельной задачей общекуль-
турной значимости.
Цель и задачи исследования. Целью исследования является попытка концептуального осмысления проблем развития образа героя-индивидуалиста в творчестве Пушкина и Достоевского как основы идейной и художественной близости двух великих писателей. Указанная цель определяет задачи исследования, в которые входит:
1. Обобщение литературоведческих изысканий, касающихся образа героя-индивидуалиста в творчестве Пушкина и Достоевского.
2. Исследование общественных условий возникновения образа героя-индивидуалиста в русской литературе.
3. Классификация типов индивидуалистического мировосприятия в произведениях Пушкина и Достоевского.
4. Определение роли образа героя-индивидуалиста в творчестве Пушкина и Достоевского.
5. Определение крута литературных и философских проблем, возникающих в ходе эволюции образа героя-индивидуалиста; их соотнесение с ис торико-социальныш проблемами XIX столетия.
6. Рассмотрение отношения Пушкина и Достоевского к проблемам развития индивидуализма в русской культуре.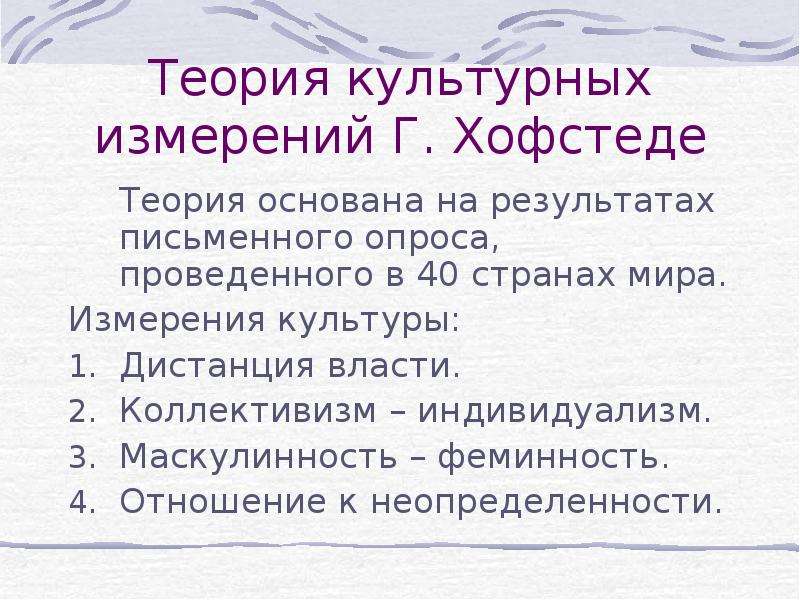
Теоретической и методологической основой являются достижения современного литературоведения в области истории литературы, а также русской философской критики, освещавшей рассматриваемые в работе проблемы. Методом исследования является сравнительно-типо-логичэсккй и историко-культурный анализ.
Научная и практическая значимость работы заключается в том, что она дает возможность углубить представление об историко-литературном и общественном процессе ИХ века. Материалы диссертации могут быть использованы при преподавании русской литературы XIX века, в спецкурсах и спецсеминарах по творчеству Пушкина и Достоевского, при подготовке методических разработок для учителей средней школы и лекций для населения.
Апробация. Результаты исследования докладывались на XX зональной конференции литературоведов Поволжья в 1986 году, на итоговых научных конференциях преподавателей Куйбышевского педагогического института /1987,1988 и 1989 годы/, на Всесоюзной конференции молодых ученых в г. Тольятти /1988 г./, на конференции литературоведов в г. Пензе /1989 г./.
Тольятти /1988 г./, на конференции литературоведов в г. Пензе /1989 г./.
По теме диссертации прочитан спецкурс для студентов филологического факультета Куйбышевского пединститута.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность теш диссертации, определяются цели и задачи исследования, научная новизна и критическая значимость.
В первой главе — «Общественно-политические и культурные условия появления героя-индивидуалиста в творчестве Пушкина и его осмысление в творчестве Достоевского» — исследуются те сложно взаимодействующие историко-культурные процессы, которые способствовали возникновении индивидуалистического миросозерцания в России и определили его развитие.
Индивидуализм в Европе начала XII века был значительным общественным явлением, исторически обусловленным предшествующим развитием и нашедшим свое яркое выражение в культуре.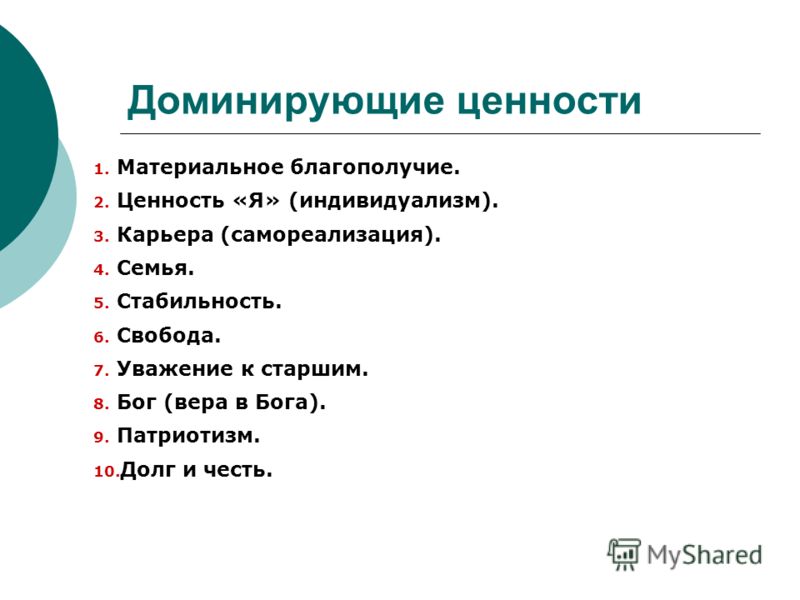 В общественном сознании он связывался с фигурой Наполеона — символом дерзкого противостояния личности всем нравственным и правовым нормам. В литературе он возник на основе романтизма как непосредственная реакция на события Великой Французской революции, не давшей человечеству желанного исхода, и-противостоял рационалистической философии ХУШ столетия, решающим методом которой оставался внеличностный, механистический подход к проблемам человеческого общества.
В общественном сознании он связывался с фигурой Наполеона — символом дерзкого противостояния личности всем нравственным и правовым нормам. В литературе он возник на основе романтизма как непосредственная реакция на события Великой Французской революции, не давшей человечеству желанного исхода, и-противостоял рационалистической философии ХУШ столетия, решающим методом которой оставался внеличностный, механистический подход к проблемам человеческого общества.
Однако своеобразный характер русского Просвещения, создавшего почву для восприятия идей вольности и прав личности, и специфические черты русского романтизма, становление которого совпало с тодъемом национального самосознания и гражданского чувства, чему, ореаде всего, способствовала Отечественная война 1812 года, -обусловили особые отношения в России индивидуалистического мироощущения и рационалистической идеи общественной пользы, обеспечив ш возможность одновременного развития.
Осмысляя в различное время в разных, хотя и не лишенных опреде-генного сходства исторических и общественных условиях эволюцию шдивидуализма в России, Пушкин и Достоевский отразили в своем ‘ворчесгве следующие ее этапы и связанные с ниш проблемы:
I. Возникновение индивидуалистического миросозерцания в России юд влиянием европейского романтизма. Его развитие, обособление и ¡воеобразие.
Возникновение индивидуалистического миросозерцания в России юд влиянием европейского романтизма. Его развитие, обособление и ¡воеобразие.
2. Разлад субъективно-эгоистического сознания с действительностью. Индивидуалистический бунт.
3. Слияние крайнего индивидуализма с рационалистической идеей в части безоглядного революционного разрушения. Проблема насилия и тирании.
4. Несостоятельность индивидуализма. Проблема нравственного идеала.
Первый период, который можно условно назвать романтическим индивидуализмом. находит в творчестве Пушкина сочувственное изображение. Отношение к нему Достоевского на протяжении его творческой деятельности не было однозначным.
Молодой Пушкин живо откликнулся на него, ибо для него, как, впрочем, и для декабристов, связывавших некогда свои надежды с либеральными начинаниями Александра I, формирование индивидуалистического миросозерцания на его ранней, романтической стадии обозначало, главным образом, утверждение личностного самосознания /у Пушкина вообще высоко развитого/, освобождение внутреннего мира от классицистических и рационалистических схем, требовавших подчинения человека общественному долгу. В «Кавказском пленнике», где впервые в русской литературе изображен романтический-индивидуалист, и даже отчасти в «Цыганах» еще не существует отчетливой дистанции между автором и героем.
В «Кавказском пленнике», где впервые в русской литературе изображен романтический-индивидуалист, и даже отчасти в «Цыганах» еще не существует отчетливой дистанции между автором и героем.
Достоевский вступал в литературу, когда романтический индивидуализм уде уступил место разочарованному эгоизму. Целая эпоха «стремления к неподвижности», усредняющего и обезличивающего Николаевского царствования отделяла героя-индивидуалиста второй половины XIX столетия от его романтического прообраза «дней Александровых». В образах героев этого типа, созданных Пушкиным, Лермонтовым и Тургеневым, все явственней проступали и становились преобладающими черты жестокости, самовлюбленности, презрения к окружающим. Романтизм отстаивал абсолютную ценность человеческой личности ; развившийся из него эгоцентрический индивидуализм постепенно утверждался в мысли о праве исключительной личности творить насилие над окружающими.
Считая индивидуализм серьезной и опасной болезнью русского общества, Достоевский относился к нему с осуждением, но по мере
своей идейной борьбы с »уталитаристаш», основой программы кото—
рых послужили рационалистические концепции мира и человека, Достоевский, не меняя своего отношения к индивидуализму в целом, по-новому взглянул на его историческую роль.
С первых же шагов становления индивидуализма в России обнаружить главная его проблема: заимствованный его характер становился ричиной отчужденности русского индивидуалиста от собственной куль-уры при невозможности отрешиться от нее совершенно, до конца, тать «вполне европейцем». Мотивы «мировой скорби», характерные ля героев Байрона, получили, по мнению Достоевского, новое на-равление в «Кавказском пленнике» и, в особенности, в «Цыганах», преодоление байроновского влияния Пушкиным вовсе не означало далтации его героев-индивидуалистов к русской национальной почве.
Ряд общественных и культурных потрясений и преобразований, на-ало которым положили Петровские реформы, привел в XIX веке к ос-эвному противоречию русской жизни: отсутствию духовного единства заду народом и образованной частью общества, Развитие индивидуа-язма на базе личностного мироощущения, определившегося европейс-ам характером воспитания и образования дворянства, в сочетании э специфическими чертами русского крепостного быта, лротивостоя-з «соборному», общинному началу русской национальной культуры. Это ярко отразилось в художественных образах, создан-х Достоевским /Свидригашгов, Ставрогин, Федор Павлович Карама-в/, предшественником которых сам писатель называл пушкинского ордого человека».
Это ярко отразилось в художественных образах, создан-х Достоевским /Свидригашгов, Ставрогин, Федор Павлович Карама-в/, предшественником которых сам писатель называл пушкинского ордого человека».
Вторая глава — «Герой-индивидуалист байронического типа» -следует указанный выше второй этап эволюции индивидуалистичес-го сознания.
В ней рассматривается тип героя с субьективно-индивидуалисти-
Достоевский Ф.М. Полн.собр.соч. В 30-ти т. — Т.Х1Х.-Л., -1979. — С,135-136. Далее пит. по этому изданию в тексте, с указанием тома и страницы.
ческим мировосприятием, то есть, рукододствущегося в поступках иррациональной стихией собственных чувств, не соизмеряемых ни с внесшими объективными обстоятельствами, ни с логикой рассудка. Такого героя, поставившего свои желания над общественными законами, отрицающего мораль и не признающего объективный /не зависящий от его воли/ миропорядок, Достоевский называл «байронистом» и «горным человеком», В творчестве Пушкина и Достоевского он превращается в современного им героя-индивидуалиста и, сохраняя основы своего субъективистского мировосприятия, становится объектом реалистического изображения.
В соответствии с определения;.«:, которыми пользовался Достоевский, мы среди множества героев, характеризуемых субъективно-индивидуалистическим миросозерцанием, выделили «хищный тип» и «разочарованный», первому из которых присуща неистребимая жадность к жизни, жажда взять от нее все, что она может дать /эта животная жадность к жизни у героев Достоевского почти всегда подчеркивается ненасытимым сладострастием/. Герой, относящийся ко второму роду, успел «насладиться» и пресытиться и ныне питает к жизни неодолимое отвращение. Творчеству Достоевского более близок первый из названных героев, чье мироощущение он выразил программной фразой: «Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу,’ что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить.» /У,174/
Творчеству Пушкина ближе герой противоположного склада, уделом которого стало, по слову Жуковского, «безочарование», имеющий столь же программное самоопределение, вложенное Пушкиным в уста Онегину: «Зачем я пулей в грудь не ранен? /. -Лолн.собр.соч,_В_1(Ь.ти т. — 1.7. — I., — 1978. -С.173. Далее цитаты по этому изданию в тексте, с указанием тома и страницы.
-Лолн.собр.соч,_В_1(Ь.ти т. — 1.7. — I., — 1978. -С.173. Далее цитаты по этому изданию в тексте, с указанием тома и страницы.
полное безверия циническое презрение к морали, приводящее к страною нравственности, самому нелепому суеверию и какой-то урод-ивой мечтательности. Наиболее ярким представителем этого миро-дущения исследователи единогласно называет Федора Павловича Кара-азова.
Главную «формулу» этого оригинального характера /соединение эстокого сладострастия с мечтательным циническим суеверием/ Досовский нашел у Пушкина.
Именно эти черты — полное безверие, слепая жажда жизни, жесто-эсть сладострастия — Достоевский отмечал в пушкинской Клеопатре, {ализируя «Египетские ночи».в статье «Ответ «Русскому вестнику». )Стоевекий с почти математической непреложностью показывал обу-ювленность и даже обязательность0 преступления, к которому тол-дат человека «страсти роковые», не одухотворенные высшей /рели-юзной, в его понимании/ идеей.
Философским осмыслением такого характера Достоевский считал ¡раз барона Филиппа, внутреннее сходство с которым Федора Павлова приводит к показательным соответствиям в ряде сцен «Скупого щаря» и «Братьев Карамазовых».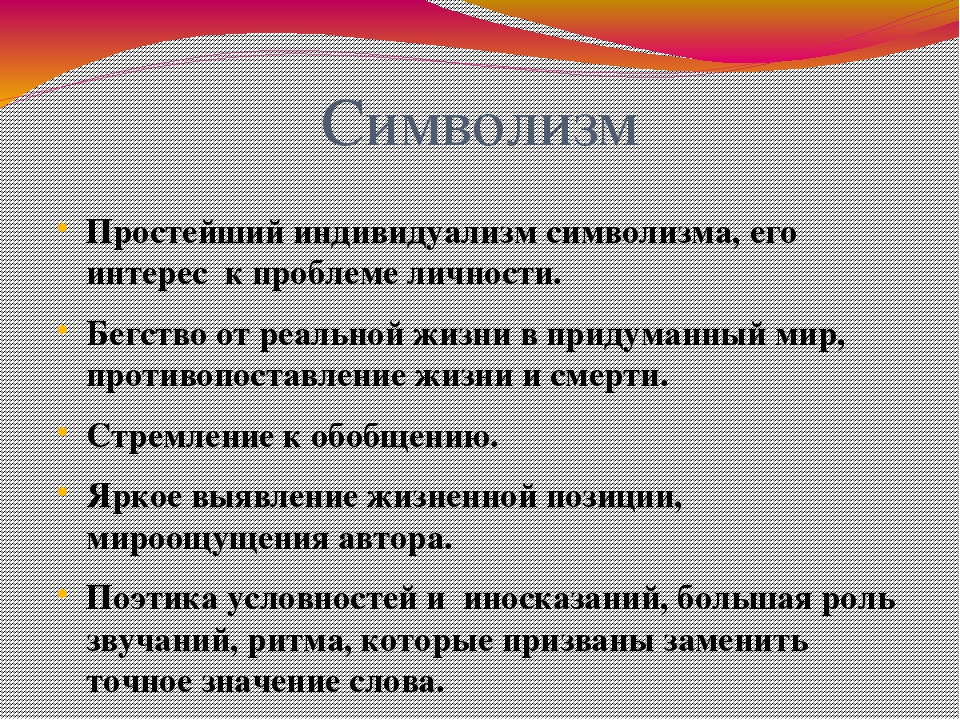
В вышедшей в 1972 г. работе «Достоевский и Пушкин» Д.Д. Благой ;елал ценное наблюдение, отметив «параллельные ситуации»* в ¡агедии Пушкина и романе Достоевского. Однако углубляться в изу-ние этого важного сходства исследователь не стал, не придав ему лжного значения.
Между тем, эта идейная близость много объясняет в характере дивидуалиста «хищного типа», позволяет постичь мир, в котором живет. Ибо этот мир нельзя назвать будничным и повседневным. — фантастичен, по любимому слову Достоевского, и он открывает-на грани реальности и миража. Это бред наяву, ибо. человек, ко-рому тесна реальность, человек, не желающий с нею мириться, тво-т свою, новую действительность, где главное место занимает он м. Но если это человек, уже отмеченный печатью порока и разло-ния /как Клеопатра, барон Филипп или Федор Павлович Карамазрв/, эта действительность существует по порочным законам его фанта-я. Так барон Филипп рисует в своем воображении мир, где все эдажно, так Федор Павлович беспрерывно рассказывает малопристой-з истории, где все развратничают и подличают. Это особый род
Это особый род
Благой Д.Д. Достоевский и Пушкин.//Достоевский — художник и мыслитель. — М. — 1972. — С. 380.
сладострастия, называемый Достоевским «прелюбодейством мысли». Но жертвы этим порочным мечтам приносятся отнюдь не вымышленные.
Противопоставив свою личностную сущность мирозданию, герой-индивидуалист вступает в непрерывную войну с презираемым им реальным миром, ибо мироздание не может существовать по законам фантазии индивидуалиста. Эта война означает доя индивидуалиста цепь преступлений против «настоящей» жизни во имя жизни выдуманной, против «мара Божия» во имя мира, им самим созданного. Ввиду неравенства сил война может закончиться только гибелью индивидуалиста, и гибелью для него будет даже отказ от войны, который означает отречение от своей индивидуальности. В неизбежности гибели индивидуалиста, как показали Пушкин и Достоевский, и заключается неотвратимость земного возмездия, подчеркиваемая в «Скупом рыцаре» и «Братьях Карамазовых» тем обстоятельством, что причиной смерти барона Филиппа и Федора Павловича выступают их собственные дети.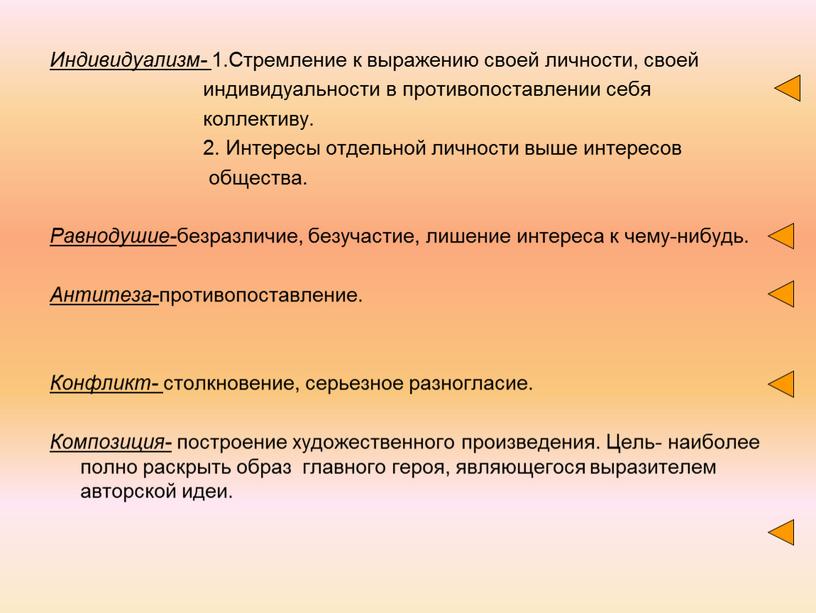 че, чем ниже он падает. «Перенести я притом не могу, что иной, высший даже сердцем человек и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом содомским. Еце страшнее, кто уже с идеалом содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны, и горит от — него сердце его и воистину, воистину горит, как и в юные беспорочные годы». /Х1У.100/ Гак говорит об этом Митя Карамазов, наиболее характерный у Достоевского представитель данного типа сознания, и, как нам кажется, типологически этот образ имеет свое соответствие в пушкинском Дон Гуане, хотя такая параллель не освещалась в исследовательской литературе.
че, чем ниже он падает. «Перенести я притом не могу, что иной, высший даже сердцем человек и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом содомским. Еце страшнее, кто уже с идеалом содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны, и горит от — него сердце его и воистину, воистину горит, как и в юные беспорочные годы». /Х1У.100/ Гак говорит об этом Митя Карамазов, наиболее характерный у Достоевского представитель данного типа сознания, и, как нам кажется, типологически этот образ имеет свое соответствие в пушкинском Дон Гуане, хотя такая параллель не освещалась в исследовательской литературе.
Двух этих героев роднит то, что несмотря на весь опустошающий опыт разврата, оба способны загораться от красоты, вдохновляться ею. И эта же красота будит в них не «богомольное благоговенье», а дерзкое желание обладать ею.
Поступки их отличает сбивчивость, противоречивость и какая-то бездумная, так сказать, поверхностная жестокость, являющаяся, скорее, следствием нетерпеливости и неумения сдерживаться, чем порочным — свойством натуры.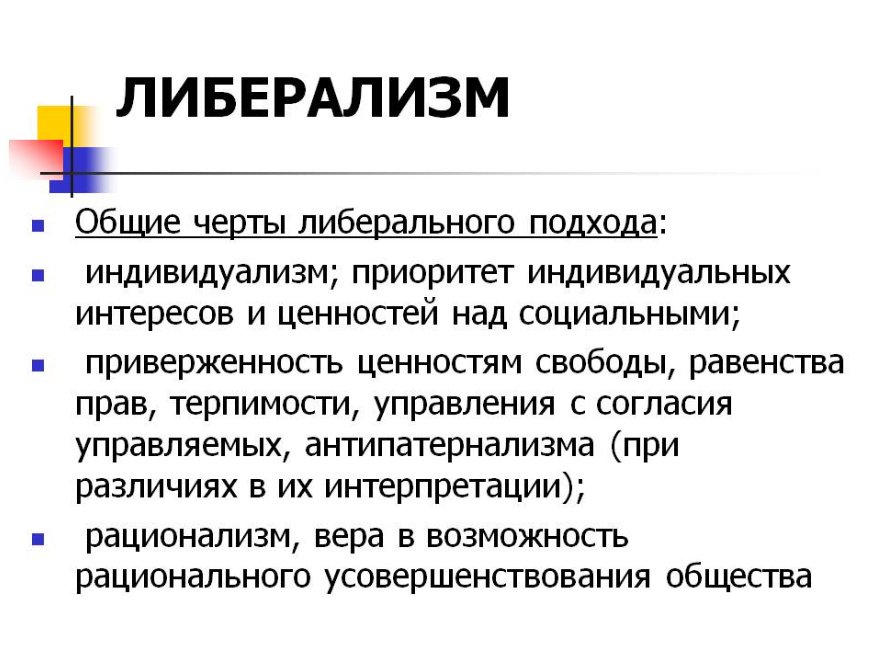
В случае с Митой Карамазовым это новое, изменившееся отношение { прежней бурной жизни становится первой ступенью к нравственному возрождению. Но этого может и не произойти и душевное движение, зборвавшись, превращается в разочарованность, в «капризность», ‘брюзгливость» и «неверие» /ХХУ1.П7/, то есть, то черты, которые, ю мнению Достоевского, отличают «уставшего от жизни» русского 5айрониста.
Это важный момент в жизни героя-индивидуалиста, когда, пресытившись в погоне за острыми ощущениями, он из «хищного типа» пре-¡радается в «разочарованный». В нем еще очень много жизненных !ил: физически он способен перенести и невзгоды, и страдания. Но [равственно он часто оказывается не готов к ним, его душа их изберет.
Исторические и культурные особенности русской жизни 20-х годов LEX столетия сложились таким образом, что появление в творчестве [ушкина утомленного жизнью героя /»Кавказский пленник» и «Евгений >негин»/ предшествовало изображению героя иного склада, стремящеюся к жизненным наслаждениям.
Крайним воплощением индивидуализма онегинского типа исследова-ели считают образы Ставрогина и Свидригайлова, хотя и называют • х в этом ряду не без осторожности. Между тем, в творчестве Досовского есть герой в гораздо большей степени похожий на Онегина, ак что кажется необъяснимым то обстоятельство, что это сходство ,о сих пор оставалось совершенно незамеченным. Мы говорим о глав-ом герое раосказа «Вечный муж» Вельчанинове. чье родство с Оне-иным выявляется в результате дословных совпадений авторских ха-актеристик и подтверждается их поведением в сходных сценах.
Соответствие Вельчанинова Онегину, более ясное, чем соответст-ие Онегину Ставрогина и Свидригайлова, интересно в двух отноаге-иях: оно характеризует понимание Достоевским.образа Онегина, а акже объясняет нечто очень важное в разв!тиа и психологии названых героев Достоевского /Свидригайлова, Ставрогина, Вельчанинова/.
Во всех упомянутых случаях возможность нравственного переродде-ия открывается герою-индивидуалисту в жертвенной любви к другому эловеку: для Онегина — в любви к Татьяне, для Мити — к Грушеньке, ля Дона Гуана — к Доне Адне, для Свидригайлова — к Дуне Расколь-аковой; для Ставрогина — к Лизе. Несколько иначе обстоит дело в,
Тютчев Ф.И. Сочинения. В 2-х г. — Т.П. — М,- 1980. — C.I83.
«Вечном муже», где эта возможность открывается Вельчанинову в новом. незнакомом еще ему чувстве к дочери.
В отличие от некоторых критиков /например, И.В. Киреевского/, Достоевский полагал, что способность к истинной любви была у Онегина /как и у Вельчанинова, Свидригайлова. Ставрогина и Дон Гуана/ но она утрачена им в результате «пестрой» и «неправильной» жизни; и в утрате ее и есть наказание за все грехи и ошибки онегинской молодости, Онегин, как считал Достоевский, страдает, но страдает, в отличие от Мити Карамазова, самим собой, и просветления в его душе не наступает. Он остается индивидуалистом, несмотря на всю мучительность переживаемого им состояния.
Итак, главной проблемой для героя-индивидуалиста байронического типа является расхождение между его субъективным мироощущением /его представлением о мироздании, о своем месте в нем и т.д./ и объективно существующим порядком вещей. Здесь источник непрерывной повышенной опасности /как для самого героя-индивидуалиста, так и для общества/, но здесь же причина частых двусмысленных, а иногда и комических положений, в которые неизбежно попадает герой-индивидуалист в результате упомянутого несоответствия. Сходно осмысляя роль героя-индаввдуалиста в развитии культуры, Пушкин и Достоевский именно этог аспект часто избирали художественным средством пародийного снижения образа.
В числе недостаточно изученных срответствий творчества Пушкина и Достоевского — сходное пародийное изображение героя,-которого условно можно назвать несостоявшимся, то есть, комического двойника байрониста, утрирующего, искажающего, переводящего в «низший план» его «демонические’*4 черты ; и иронически-сочувственное изображение слабости романтического героя сентиментального «ишлло-ровского типа», не выдерживающего столкновения с «байронистом».
Определенное сходство в этом отношении обнаруживают образы За-рецкого из «Евгения Онегина» и капитана Лебядкина из «Бесов» ; Владимира Ленского и Степана Трофимовича Верховенского ; генерала Иволгина и женатого Фальста а, портрет которого Пушкин набрасывает в «ТаЫе^а1к».
В третьей главе — «Герой-индивядуалист и рационалистическая идея» — прэдметом исследовш1Ия является отношение индивидуалиста-‘ ческого мироощущения к рационалистической идее,’, под которой мы подразумеваем концепцию устройства жизни на основании упорядоченных законов чиогого разума, исходящего из понятий всеобщности и необходимости.
В рационалистической идее, ‘являвшейся частью целого направления в истории культуры, Пушкин и Достоевский выделяли два взаимообусловленных и взаимосвязанных аспекта: эстетический и этический.
По поводу первого Пушкин писал: «Между тем как эсфетика со времен Канта и Лессинга развита с такой ясностью и обширностью, \яы все еще остаемся при понятиях тяжелого педанта Готшеда; мы все зще повторяем, что прекрасное есть подражание изящной природе и тао главное достоинство искусства есть польза’.’ /УП.146/
Принципы подражания и полезности, которые классицизм почерпнул из «Поэтики» Аристотеля, в своп очередь, нашедшего их в эстетическом учении Платона, Пушкину не раз приходилось оспаривать как з критических так и собственно художественных произведениях и высказываниях. Возражая против формул классицизма, он не принимал и требований Просвещения, подчинивших искусство социальной задаче. Тушкин последовательно отстаивал свободу творчества от политических тенденций, расходясь в этом с декабристами, которым близка 5ыла мысль о гражданско-служебном назначении искусства.
В послепушкинский период просветительские тенденции понимания золи искусства в общественной жизни во многом определили критичес-сие позиции Белинского и получили новое направление в деятельности революционно-демократического лагеря. Отвергая следом за Пушенным «утилитарное» понимание искусства, Достоевский выступил в [861 г. с рядом статей о русской литературе. Характерно, что спор : революционерами-демократами Достоевский вел именно о Пушкине и : пушкинских позиций.
Эстетические разногласия, возникавшие у Пушкина с его совре-генниками, как впоследствии и у Достоевского с революционно-демократическим лагерем, были отражением различно понимаемой эстети-геской проблемы: несходных взглядов на природу человека, на ис-ючник происхождения добра и зла и на место личности в обществе.
Рационалистическая идея, будучи’ материалистической по своему :арактеру, в целом глубоко чужда и-даже враждебна субъективно-ин-(ивидуаяистическому мировосприятию, ибо неизбежное противоречие 1ежду индивидуалистом и большинством, «толпой» она арифметически >ешает в пользу большинства. Однако, видя свое воплощение в устро-!нии всеобщего благоденствия и являясь революционной по своим :редствам, допускает насилие над отдельной личностью. В этой разрушительной части она имеет точку пересечения с крайним индивиду-лизмом, ставящим собственные желания выше морали и общественных аконов, и также готовым прибегнуть к насилию.
Это соединение рационалистической идеи и индивидуализма не может быть долговременным в силу противоположности их целей и должно закончиться либо растворением субъективного индивидуализма в рационалистической идее /здесь возможно и физическое уничтожение индивидуалиста/, либо искажением идеи, произвольной ломкой ее, превращением в средство личного возвышения. Эта последняя возможность со всей очевидностью выявилась в ходе Великой Французской революции, воплотившей рационалистическую идею и приведшей к власти Наполеона. Смена демократии наполеоновской диктатурой оказалась неожиданной для большинства современников ; в их оценке событий преобладала эмоциональная окраска, что отмечал Пушкин в набросках статей, посвященных этой теме.
Создавая новый художественный метод мышления, получивший впоследствии название историзма, Пушкин первым в русской литературе соединил в своих героях индивидуализм и революционную разрушительную идею, во многом предугадывая тем самым дальнейшее развитие русского общества.
Достоевский же осмыслял это соединение в определенной исторической перспективе как закономерное. Он очень тонко чувствовал и понимал восприятие тех событий современниками /растерянность, разочарование, приведшее к смене культурных веяний/, однако в своем творчестве опирался уже на систематизированный опыт философской мысли, на литературную традицию, идущую от Пушкина и обогащенную творчеством Тургенева, Лескова, Писемского, Салтыкова-Щедрина, Некрасова, Чернышевского, и, наконец, на современную ему действительность, дававшую немало примеров сочетания революционности и индивидуализма /Бакунин, Нечаев/. Это позволило ему уже в «Преступлении и наказании», социально-философском романе с ярко выраженной пушкинской идейной основой, затронуть эту проблему во всей глубине и сложности.
Характер Раскольникова, индивидуалиста, перешагивающего «через кровь» во имя идеи, имеет гбщие черты с несколькими пушкинскими образами. Наиболее исследована связь Раскольникова с Германном, на которую указывал сам Достоевский. Отмечалось также и некоторое сходство Раскольникова с Сальери. Менее всего исследовано рассматриваемое в главе соответствие «Преступления и наказания» и «Бо-_
риса Годунова», глубокая философская мысль которых заключается в том, что личная драма Годунова и Раскольникова обусловливает их политический крах и, в свою очередь, обусловлена им. Причем, политический провал предопределен не только и даже не столько их
ндавидуальными качествами /или, напротив, их отсутствием, если оворить о последовательности, должной твердости и пр./, а изна-альной ложностью предположения, будто в основу счастья — своего ли чужого — может быть положено преступление, постепенно выявля-щейся в независимом от них ходе вещей.
Не принимая рационалистическую идею, Пушкин считал ее значи-ельной и не раз возвращался к ней в своем творчестве: одно из го произведений целиком посвящено развенчанию ее. Речь идет о Моцарте и Сальери», где сочетание рационалистической идеи с инди-идуализмом представлено в сложной взаимообусловленности этичес-ого и эстетического аспектов. И эта одна из самых глубоких в фи-ософском отношении трагедия своеобразно отразилась в философской паве романа «Братья Карамазовы» «Великий Инквизитор».
«Братья Карамазовы» — итоговый роман Достоевского, работу над эторым он прерывал, чтобн осмыслить место Пушкина в русской ли-эратуре и его собственном творчестве. Многие мысли и идеи Досто-зского получили яркое воплощение и завершение в «Братьях Карама-овых», среди них и рационалистическая идея полезности. Причем, зли в «Преступлении а наказании» Достоевский сосредоточился по эеимушеству на ее тиранической, так сказать, наполеоновской час-я, то в «Братьях Карамазовых» предметом его исследования стала э изначальная демократическая суть.
Убивая Моцарта, Сальери мотивирует необходимость убийства во-зэ не своим желанием, а пользой: «Что пользы, если Моцарт будет зв» и лотом: «Что пользы в нем?» /У,310/ Так же Великий Инквизи->р, решившись казнить Христа, убеждает его в необходимости его ¡требления, поскольку идея, провозглашенная Христом, бесполезна, га не может ни накормить людей, ни успокоить ю£ совесть.
Говоря о неприятии Пушкиным и Достоевским рационалистической (ей, необходимо иметь в виду не только культуру ХУШ столетия или ■илитаризм «сощаяистов»-шестидесятников, а рационалистическую гльтуру как таковую, как важное направление в истории человечес-1й мысли, возникшее на заре античности, окончательно кристалли-1вавшееся в этических и эстетических трактатах ХУШ века и подувшее новое развитие во второй половине XIX столетия.
В этом философском течении Пушкин и Достоевский не принимали ■о скептического отношения к самостоятельной ценности человечес-й личности, попытки свести вопросы жизни и смерти к рассудочным емам, к «алгебре», «арифметике».
В своих взглядах Сальери и Инквизитор ориентируются на некоего
усредненного человека, так сказать,человека вообще /примечательно что оба охотно употребляют местоимение «мы», словно позволяющее им говорить от лица всех: «Мы все, жрецы, служители музыки» ; «мы чада праха» /здесь дословное совпадение/ и т.д. Великий Инквизитор и вовсе почти не употребляет местоимения единственного числа/ Этот «общечеловек», как называл его Достоевский, и есть сфера приложения их деятельности. Достоевский говорил, что любовь к нему всегда оборачивается ненавистью к своим ближним. И в самом деле, во имя его блага герои, как им кажется, отрешаются от себя, идут на предательство, обман, убийство, полагая это святым служением ему.
Итак, обе часта рационалистической идеи — и демократическая и диктаторская — заканчиваются одинаково: безграничной тиранией, которую устанавливает шш к которой стремится герой-индивидуалист. Народ превращается для него в толпу, стадо, а понятие общественной пользы отождествляется с полным произволом, который герой-индивидуалист творит по собственному усмотрению. Причем и Пушкин, и Достоевский, совмещая философскую глубину мысли с необычайной художественной выразительностью, показывают, как быстро и неумолимо благие намерения, осуществляемые насильно, «через кровь», обращаются в свои противоположность, а «благодетель» становится «кровопроливцем».
Неотвратимое «шествие» «века-торгаша», капитализация России и связанная с ней демократизация культуры, упадок дворянства, приток в литературу разночинного элемента ставили перед общественной мыслью новые проблемы. Менялось общее направление культурного движения в сторону материального прогресса, что требовало утилизации культуры, клонился к закату «золотой век» русской поэзии, ярчайшим представителем которого был Пушкин.
Пушкин с грустью наблюдал смещение высоких представлений о, чести, любви, свободе, дружбе, — о том, что составляло нравственное ядро его творчества, «то побуждает его к тридцатым годам вновь обратиться к теме индивидуалистического бунта, уже получившей некоторое освещение в «Цыганах» и «Евгении Онегине».зрелого Пушкина имеет два направления: богоборческое /»Пир во время чумы», отчасти «Каменный гость», отчасти «Моцарт и Сальери» и «Сцена из «Фауста»/ и антиобщественное, «разбойничье» /»Дубровский», «Капитанская дочка», наброски к «Роману на водах»/. Каждое из названных направлений включает в себя два плана: философский /идейное и нравствен-
за объяснение бунта/ и психологический /внутренняя мотивирован-эсть бунта/.
Тот же метод изображения и осмысления причин индивидуалисти-зского бунта встречается и в творчестве Достоевского, с той, трочем, существенной разницей, что у Пушкина художественный план ;егда преобладает над философским и социальным, тогда как у Досовского философская идея иногда подменяет собой высоко ценимую л «художественность».
В условиях стремительного развития капитализма в России и все взраставшей в сознании русского общества роли социальных концеп-Ш, Достоевский, опираясь на Пушкина и вопреки своему уже ело-шшемуся отношению к индивидуализму, дал в своем творчестве все-гороннее объяснение индивидуалистического противостояния личности фужагощей ее действительности.
Не принимая антихристианской гордыни индивидуалиста, Достоевс-1Й одновременно чутко угадывал в ней правду «навсегда раненного зрдца», затаенную боль от несправедливости обид. В ней неотдели-> соединились и высокомерное презрение к «миллионам» «двуногих зарей» и пережитые некогда оскорбления и унижения, о которых лег> забывает иной человек, но которые навсегда врезаются в душу шимую.
Гордыня индивидуалиста и порожденный ею бунт были не только его шой, но и его бедой, его трагедией. Эта тема исключительной на-)яженности и страстности достигает в главе «Бунт» романа «Братья фамазовы», однако в литературоведении осталась незамеченной ее дайная близость «Пиру во время чумы». Иван Карамазов, как и Валь-шгам, бунтует против Бога, ибо оскорбленное чувство справедош-юти не может смириться с совершающимся на зешге злом и побувда-? их в одиночку восстать против мироздания. Понимая всю тщз?у и юсилие изменить объективный ход вещей, герой Достоевского, как герой Пушкина, полон решимости «истребить себя» и готов скорее >гибнуть, чем смириться с царящей вокруг него неправдой.
Заметно, что Пушкин, воспринимавший законы христианской морали >лее свободно, чем Достоевский /хотя и взгляды Достоевского по->й расходились с догматами веры/, проявлял больше симпатии в изо->ажении бунтующего индивидуалиста, признавая за ним полное право юпорядиться своею /но не чужою/ жизнью. Достоевский же судил тстующего индивидуалиста с позиции смирения и всепрощения’, пола-1Я их основой православия и русской культуры в целом. Однако и [есь он не столько осуждал своего героя, сколько скорбел о нем.
Осуждая следом за Пушкиным индивидуализм как явление общественное и культурное, Достоевский писал: «…Величие Пушкина, как руководящего гения, состояло именно в том, что он так скоро, и окруженный почта совсем не понимавшими его людьми, нашел твердую дорогу, намел великий и вожделенный исход дня нас, русских, и указал на него. Этот исход был — народность, преклонение перед правдой народа русского». /ХХУТ.И4/
Из этих слов Достоевского не следует, что он, или, тем более, Пушкин, считали «народную правду» достоянием одного сословия /например, крестьянства/ иди даже нации в целом. И Пушкин, и Достоевский, в чьих произведениях достаточное место отведено изображению разъяренной толпы, бунта, «бессмысленного и беспощадного», знали, что в иные исторические минуты народная правда может оказаться не с народом, а с тем, кого народ побивает каменьями.
Никто, даже сам народ не может распоряжаться «народной правдой» по собственному усмотрению, менять ее или приспосабливать к требованиям текущего момента. Ибо народная правда, как ее понимали Пушкин и Достоевский, есть высокий идеал, выработанный всей национальной культурой, то есть, и народом и отдельными его представителями, сумевшими постичь и выразить его дух. «История народа принадлежит поэту», — писал Пушкин. /Х.100/
Неприятие обоими писателями индивидуализма выразилось не в прямых оценочных суждениях или не только-б них, а в противопоставлении индивидуализму нравственного идеала, народной правды в ее высшем, всеобъемлющем значении, а также в изображении героев, воплотивших представление Пушкина и Достоевского о добре, красоте и-любви к людям /Моцарт, Татьяна Ларина, Петр Гринев; князь Мылпшн, Зосима, Алеша Карамазов/.зуленш_литературы_
в вузе в свете решений ХХУП съезда КПСС и реформы общеобразовательной и профессиональной школы./Тез.докл.межвуз.обл.науч.-практич. конф.литературоведов 13-16 лая 1986/ — Куйбышев — 1986. — Вып.1,-С. 78-80.
2. Традиции пушкинской драматургии в романе Ф.М.Достоевского
«Братья Карамазовы».// Взаимодействие жанров, художественных направлений и традиций. :Межвуз.сб.науч.трудов./Куйб.пед.ин-т. -Куйбышев. — 1988. — 0,7 и.л. /и-.шййяя/
Подписано в печать 30.10.80 г. Формат 60×84/16 Бумага оберточная белая. Оперативная печать. Уч.-изя.л 1,0. Тираж 100 экз. Заказ № 6169.
Типография им. Мяги Куйбъниеъскотч) полиграфического объединения, г. Куйбышев, ул. Беннека, 60
Западный индивидуализм и русская традиция
В конце 20-го столетия вновь стала актуальной уходящая вглубь веков проблема взаимоотношения Запада и России как двух великих культурных путей. Понимая гностическую неисчерпаемость темы, сформулируем нашу позицию по отношению к сути и характеру этой дихотомии. Ибо именно здесь, в исследовании традиций Запада и России, сегодня раскрывается философская истина и логика постижения сущности планетарных социокультурных процессов, судьба России, поиск путей спасения её и всего мира, лежит ответ на главные и «вечные» вопросы, сформулированные человечеством.
1. Россия и Запад: мысли друг о друге
Со стороны Запада (Европы) всегда отмечалось устойчивое неприятие России в двух её образах: равновеликой ему геополитической державы и русского человека с его историческим правдоискательством и обретением универсальных смыслов бытия. Не секрет, что одна из основных целей Запада сегодня – не допустить национального возрождения России. Нельзя не видеть этой истины и недооценивать того, что пишут С. Хантингтон, З. Бжезинский, говорят европейские политики.
Чего же так боится капиталистический мир Запада? Сошлёмся на откровенное суждение Хантингтона в работе «Столкновение цивилизаций» (1993): «Конфликт между либеральной демократией и марксизмом-ленинизмом был конфликтом идеологий, которые, несмотря на все различия, хотя бы внешне ставили одни и те же основные цели: свободу, равенство и процветание. Но Россия традиционалистская, авторитарная, националистическая будет стремиться к совершенно иным целям. Западный демократ вполне мог вести интеллектуальный спор с советским марксистом. Но это будет немыслимо с русским традиционалистом. И если русские, перестав быть марксистами, не примут либеральную демократию и начнут вести себя как россияне, а не западные люди, отношения между Россией и Западом опять могут стать отдалёнными и враждебными»1. Проблема поставлена предельно точно и ясно.
Со стороны русских, напротив, это не было отторжением Запада, основанном на чувстве ненависти и вражды. «Критика Европы» не была агрессивным антизападничеством, независимо от того, был ли человек «славянофилом» или «западником». «Мы все европейцы», – говорил такой страстный поклонник православно-русского мессианства, как Ф. Достоевский. Критика Запада была, как верно подчёркивал В. Зеньковский, в значительной степени способом лучшего постижения особенностей русской традиции, духа и культуры русского народа и на этой базе нахождения исторического пути России. Беспощадная критика европейской духовности, вера в особое призвание России соединились со своеобразной любовью к Западу и уважением к его великой культуре. Русское восприятие Запада обречено «вечно» быть противоречивым в силу той экзистенциально-исторической антиномии, о которой Зеньковский писал: «Живучесть и актуальность темы об отношении России к Западу определяется одинаковой неустранимостью двух моментов: с одной стороны, здесь существенна неразрывность связи России с Западом и невозможность духовно и исторически изолировать себя от него, а с другой стороны, существенна бесспорность русского своеобразия, правда в искании своего собственного пути. Ни отделить Россию от Запада, ни просто включить её в систему западной культуры и истории одинаково не удаётся»2.
Приведём некоторые оценки Запада русскими мыслителями, опираясь на материал, собранный Зеньковским. Попав в плен к Западу в ХVIII веке, русские критически отнеслись к «просвещению» Европы. «Божество француза – деньги… корыстолюбие несказанно заразило все состояния, не исключая самих философов… – писал Фонвизин в письмах из Франции, – французы, имея право вольности, живут в сущем рабстве… невежество дворянства ни с чем не сравнимо…»3 Одоевский писал в 1823 году: «То, что Чаадаев говорил о России, я говорю о Европе – и наоборот»4. На стороне Одоевского была тогда вся культурная Россия. Гоголь звал Запад к религиозному покаянию. В середине ХIХ века критика Запада «славянофилами» и «западниками» была развёрнута со всех точек зрения: философской, религиозной, эстетической, политической, социальной. Все они говорят о кризисе западной культуры, стараясь избежать ошибок Запада в философско-духовном развитии России. Они подчёркивали, что западный человек в сущности подменил духовность рациональностью, христианский гуманизм – секулярным, «вольтеровским». «На Западе, – пишет К. Аксаков, – душа убывает»5. Славянофил Хомяков пишет уже о «пустодушии» европейской культуры. Западник Герцен ужасается «духовным бесплодием» западного человека: «С каким-то ясновидением заглянул я в душу буржуа, в душу рабочего и ужаснулся… Куда ни посмотришь – отовсюду веет варварством – снизу и сверху, из дворцов и из мастерских… Современное поколение имеет одного Бога – капитал… Наше время – эпоха восходящего мещанства и эпоха его тучного преуспеяния»6. Данилевский в отличие от других русских мыслителей не критикует западный дух в его онтологических основах. В своём учении о культурно-исторических типах он борется с европейским мессианством, которое считает свою культуру единственно истинной, «общечеловеческой», и по этой причине Европа агрессивна, пытается навязать свою культуру другим народам, подчинить и подавить чужие культуры. Интересно отметить, что в итоге анализа славянского типа Данилевский пишет: «Особенно оригинальной чертой славянского типа должно быть в первый раз имеющее осуществиться удовлетворительное решение общественно-экономической задачи»7. Эта мысль была потом развита у народников (Михайловский и другие), Л. Толстого, Бердяева, евразийцев, в русском марксизме (Плеханов, Ленин и другие). К. Леонтьев прямо говорит о вырождении Западной Европы. С позиций своего эстетического аристократизма и культа силы (как позже Ницше) он пишет: «…средний рациональный европеец в своей смешной одежде… с умом мелким и самообольщённым, со своей ползучей по праху земному практической благонамеренностью… Возможно ли любить такое человечество?..»8. Евразиец Н. Трубецкой указывает: «…европейская цивилизация производит небывалое опустошение в душах европеизированных народов, в то же время непомерное пробуждение жадности к земным благам и греховной гордыни являются верными спутниками этой цивилизации»9. Л. Толстой, Достоевский, В. Соловьёв, Фёдоров, Бердяев главную «неправду» Запада справедливо видели в «неправде» общественного строя и того «исторического христианства», которое «предав И. Христа», освящало и охраняло западную традицию.
Таким образом, пережив к тому же тотальный разлом народной жизни в жуткое «чёрное десятилетие», мы можем лучше понять, что главной причиной культурно-мораль-ного кризиса («заката Европы») явилось не «отвержение Бога» европейским человеком и поклонение «обезбожен-ному человеку как Богу» («путь человекобожества»), о чём писал, в частности, И. Аксаков в 80-х годах ХIХ века, а бытийные начала буржуазного духа (сущностью которого являются индивидуализм, частная собственность, духовное отчуждение человека). Критика Европы не только как секуляризованной, но как «буржуазной» (Белинский, Герцен, Чернышевский, народники, Сорокин, Фёдоров, Бердяев, евразийцы, русские марксисты и другие) была более точной и продуктивной. В этой «борьбе с Западом» (теоретически) открывались пути России. Россия не должна и не может повторить буржуазно-индивидуалистический путь, но на основе усвоения, заимствования всех великих материальных и духовных достижений Европы, синтеза её культуры и своей идти самобытным путём в границах русской традиции, в соответствии с социально-нравственным идеалом русского духа – таков основной вывод русской мысли на протяжении двух столетий. Можно утверждать, что вся история России есть не что иное, как борьба за Традицию, за возможность жить, как велит русский дух.
2. Традиция как философская категория
У нас до сих пор широко распространены, за редким исключением, концепции, особенно в конкретных науках10, в которых традиция осмысливается как «отвлечённое начало», как способ принудительной, стандартной, шаблонной организации жизни какой-либо исторически возникшей общности людей. Традиция как консервативный, застывший «опыт прошлого», объективированный в виде жёстких стереотипов и образцов мысли и поведения («паттернов», по выражению К. Юнга)11. В такой интерпретации это понятие противопоставляется «живой», «настоящей» и «органической» жизни, например, народа. В отличие от этого мы считаем онтологической сущностью Традиции – антропоцентризм. Традициология есть антропология. Человек является смыслонесущим центром традиционного национального бытия, а традиция – функция самоопределения человека. Собственная историческая сущность индивидуального и общественного бытия человека, проявляющаяся в его эмпирической истории, и есть Традиция. Она есть с нашей точки зрения живой и органический канон человеческого бытия, в котором исторический человек находит устойчивую опору (гарантированное бытие) для материального и духовного существования, обретает чувство «достоверности бытия», доверие к жизни; находит свои предельные экзистенциальные смыслы и интересы (что становится приоритетной, свободно принимаемой системой ценностей и потому становится для него высшим авторитетом, священным), эталон должного поведения; осмысливает свою жизнь, находит объединяющий «центр жизни» (прежде всего духовной), каковым для него являются убеждения и верования своего народа и свои собственные, а также основные культурные ценности. В итоге это позволяет исторически действовать человеку в меняющихся социальных и природных обстоятельствах в соответствии с духом своего народа и даёт ему возможность оставаться, быть самим собой. Традиция – не антитезис творчеству исторического человека. Напротив, в ней отражён объективный смысл развёртывания в истории национального духа, мотивируется с учётом национальной культуры целеполагание, набор средств и содержание его деятельности. Традиции не «следуют», её не «соблюдают» – в ней человеческий индивид живёт в меру доступной ему полноты человеческого бытия. В традиции отражается (и закрепляется в ритуале) «кристаллизованное богатство» бытия человека и народа. Традиция не есть внешняя, феноменальная социальность человека. Речь идёт о сущностных первоосновах (в том числе и морально-нравственных) общественной ткани любого социума. Традиция – это метафизическое основание бытия культуры, антропологический костяк, дух и тело культуры, язык бытия, сущность человеческой онтологии. Человека нельзя «научить» традиции, как таблице умножения. Каждая традиция фиксирует основные, всегда конкретно-исторические мировоззренческие и ментальные установки «человеческой экзистенции», осмысленные на основе своего «культурно-исторического типа» (Данилевский), специфики «своей» цивилизации. Естественно, говоря о духе народа, мы имеем в виду его умопостигаемую сущность, а не все эмпирические формы проявления национального духа.
Схожие взгляды развивает В. Кутырев, который рассматривает традицию как факт «передачи» бытия, противоположностью которого может быть только его утрата – ничто. «Традицией можно называть, – пишет он, – область сохранения меняющихся характеристик любого предмета, когда он рассматривается как социокультурный феномен. Традиция – это проявление универсалий бытия, иммунная система общества, фундамент и субстанция культуры. Проблема традиции является социокультурной формой проблемы сохранения сущности чего угодно. Это проблема идентичности, тождественности, самости и самобытности явлений»12. Обозначив методологически наш философский принцип традиции как судьбы человека и народа, попытаемся выяснить ключевые особенности европейской и русской традиций.
3. Западный человек
Сущность западного человека европейской традиции заключается в либеральном индивидуализме как базовом принципе организации жизни общества. Именно в нём сокрыты причины и духовного взлёта, материального прогресса, и того глубочайшего духовного падения, доходящего до отторжения гуманизма, которое происходит на наших глазах.
Концепция индивидуализма оформилась в эпоху Возрождения и получила философское обоснование в Новое время, утвердив самоценность индивидуальной человеческой души, её принципиальную несводимость к другим смыслам и ценностям бытия. Однако закономерно эволюционируя от аристократизма и представая как рефлексия эгоизма буржуазного человека, эта позиция утратила своё изначальное прогрессивное значение. «Личность» эпохи Возрождения и отчасти Просвещения в результате социальной трансформации (главным образом религиозной реформации, ранних буржуазных революций в Западной Европе, секуляризации европейской науки и культуры) переродилась в «индивида» (индивидуума), на основе которого организуется «гражданское общество». Человеку в таком обществе нет надобности в поисках внеэкономических смыслов, он становится мыслящим деятельным прагматическим индивидом, активность которого обращена во внешний мир в целях его познания, преобразования и подчинения. В этом – суть духовного наполнения современной европейской традиции. В сообществах людей такого типа личность не может быть ни воспроизведена, ни сохранена. Индивид – это «единственный» (Штирнер), «одномерный» (Маркузе) человек, тогда как личность – это целостный человек, стремящийся к духовным (метаэкономическим) основам человеческого общежития, в частности любви к человеку и справедливости – этой сути гуманизма, позволяющей человеку духовно возрастать, находить в себе человека13. Капитализм оказался враждебным личности и потому он похоронил старую веру аристократического индивидуализма в человека, основанную на «теории естественного права» Руссо, Канта, Фихте и на признании благой, доброй и справедливой природы человека. Сейчас плохо воспринимается ссылка на К. Маркса. Сошлёмся на его принципиального критика Бердяева, который отмечал, что личность человека в европейской традиции дегуманизируется и деградирует в своих универсальных основах бытия, указывая причину этого: «…нет начала более враждебного личности, чем пресловутая буржуазная собственность и буржуазное право наследства»14. Именно циничный эгоцентризм и бездуховный солипсизм, ставшие главной ментальной ориентацией западного человека, являются основой разрушения личности. У нас Достоевский точно воспроизвёл аналог психологического строя «индивида» в своих «Записках из подполья». «Свету ли провалиться или мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтобы мне чай всегда пить», – так говорил «подпольный» человек у Достоевского. Вопрос «о чае» – философский, этический15, который западный человек решает как индивидуалист – он стремится быть маленьким суверенным божком, отъединённым от других людей и общества правовой безличной регламентацией человеческого бытия, ничему не поклоняться и ни перед чем не благоговеть, кроме рынка, буржуазного потребительского духа, гедонизма. Это происходит ввиду того, что духовная жизнь личности востребывается промышленностью не целиком, но лишь как функция капитала, как индивид, теперь – как носитель информации. Всё остальное из области духа за ненадобностью постепенно атрофируется. Производственно-потреби-тельская активность омещанившейся человеческой жизни, исключительно материальный этос привели к примитивизации духа. Начала же социализации, коллективизма, прорывавшиеся в Европе в виде социалистических движений, были использованы односторонне – буржуазно эгоистически вывернуты, смяты и отброшены. На смену им пришла индивидуалистическая тотальность нации и союзов наций, устремившихся к реализации своей жажды власти16, в ХХ веке превращая в одномерного индивида целые общества, нации: люби только свой народ, своего вождя, добивайся власти над другими – вот причинная цепь развития метафизики индивидуализма, находящего своё социальное подкрепление в маргинальных слоях населения, в чеховском «мещанине», собственнике-буржуа, оставшемся «в футляре» повседневной посредственности. Даже справедливость понимается как согласование (баланс) принципов и интересов (инстинктов мещанина)17. Но это уже – не истинная справедливость.
Этот индивид, в который переродилась личность Возрождения, абсолютно неправомерно унаследовал её установку: «я – центр мира, самый лучший, властный сверхчеловек», сделав этот принцип опасным для всего человечества. Западный человек (и в США, и в Европе), подобно штирнеровскому «единственному», хотел бы весь мир сделать «своей собственностью». Но на практике каждый раз после такой безумной попытки он вынужден испытывать иллюзию «пирровых побед», оставляя Европу со «свобо-дой, покоящейся на небытии, с духом …опустошённым» (Бердяев). Этому способствует и природа пресловутой европейской демократии – ведь и древнегреческое, и древнеримское, и современное европейское общества, основанные на человеке-гражданине (индивиде), а не человеке-личнос-ти, жили и живут за счёт плоти и крови других – рабов, илотов, наёмных рабочих, колонизированных народов. Прямое или косвенное рабовладение есть alter ego западной демократии, принцип её бытия. Всё это – закономерный путь развития индивидуализма, как бы возвышенно он ни начинался в момент своего становления.
Итак, современный западный человек «родился» от индивидуалистической традиции, которая реализовала изначальный посыл христианства (тайна и проблема человека в том, что он не человек) в пользу материального бытия человека, для которого отчуждение от человечности, человеческого целостного духа и стало «гарантированным бытием». Только перестроившись таким образом, западный человек смог выжить в период кризисной трансформации европейского духа в Новое время. Художественным символом этой «смены умов» стала фаустовская душа «человека-гражданина», пытавшегося в своей химической реторте увидеть зародыш появления нового человека, та душа, которая, по мнению Шпенглера, была сутью европейского человека. С. Булгаков так писал о сущности западного материального этоса: «С ростом богатства мир всё более становится хлопочущей о многом Марфой, и невольно забывается скромная Мария со своим «единым на потребу». Антагонизм между материальной и духовной цивилизацией неискореним, и мещанин всегда будет удерживать свободный полёт человеческого духа»18.
Европейский индивидуализм, его тип рациональности и разумности (а точнее – рассудочности) в конце ХIХ–начале ХХ века подорвал веру западного человека в абсолютную мощь разума, породив свою компенсаторную реакцию – дух позитивизма, который усилил идеал индивидуализма с его экзистенциальной замкнутостью и самоизоляцией. Для позитивистского духа жизнь человека полностью тождественна человеческому существованию, не имеет никаких метафизических и таинственных смыслов. Для позитивиста никаких «тайн» и «загадок» в человечности (и бесчеловечности) нет. «Люди – те же лягушки, только на двух ногах, – считал Базаров, – …изучать отдельные личности не стоит труда… Достаточно одного человеческого экземпляра, чтобы судить обо всех других. Люди, что деревья в лесу…»19 Позитивист похож в этом отношении на язычника, для которого человеческая жизнь не проблема, а «просто жизнь», которую надо прожить, как положено, достойно. В позитивистской традиции в понимании «просто жить» (достойной жизнью) ослаблены многие ценности гуманизма (поли-тические, правовые, эстетические, нравственные и т. д.20). Духовность окончательно переродилась в рациональность; «странная жизнь» (А. Блок) перестаёт быть традицией. Реализация потенций прагматического разума, подчинение посредством него всего мира Европе и обретение на этой основе ощущения достоверности человеческого бытия стало важнейшей особенностью формирования европейской традиции, метафизически-гносеологические корни которой можно суммировать так: всё должно быть организовано согласно порядку прагматичной разумности. Жёсткая регламентация поведения личности, поддерживаемая традициями протестантизма и позитивизма, управляемость жизни общества, становятся нормой жизни европейских народов – экономической цивилизации.
Однако при этом, как доказывает современная история, становится неуправляемым стратегическое развитие (с удалёнными целями), оказывающееся подчинённым законам сиюминутной выгоды – рынка. Прагматизм и рациональность всё чаще становятся неразумными, неадекватными дальней стратегии и экзистенциальной ситуации. Ибо такому «разуму», примитивизировавшемуся до простейших арифметических операций – плюс-минус, умножить-разде-лить (все остальные потребности разума и духа поставлены в услужение этой финансовой арифметике) – и доводящему позитивистский дух до уровня «Абсолюта», стало всерьёз казаться, что весь мир предельно прост и подвластен законам арифметики. Чистой кантовской морали теперь нет места – мораль, гуманизм остались (в лучшем случае) на уровне индивидуальности, перестав быть регуляторами общественной жизни, утратив механизмы воздействия на социальные процессы и институты21. Могущественные социальные организмы (в особенности политические и финансовые) стали аморальными и антигуманными, оказываясь опасными для человечества и угрожая антропологической катастрофой – поскольку понятно, что гуманистическая катастрофа есть преддверие катастрофы антропологической. Произошло эпохальное поражение европейского человеческого «Я», бывшего предметом размышлений в философии Нового времени у Фихте и Канта, создавших величественный, возвышенный миф о человеке как свободном, моральном, деятельном существе. В реальной истории, особенно в ХХ веке, европейский человек действовал вопреки идеалам этих философов. Он их предал. Он остался глух и к мудрым предостережениям своих великих писателей (Торо, Эмерсона, Гамсуна, Голсуорси, Киплинга, Ивлина Во, Фолкнера и др.), писавших о «буржуазной порочности» западного человека, духу которого стала чужда евангельская мораль любви, милосердия и сострадания, нестяжательства. Ибо кризис европейского гуманизма выразил суть бытия индивидуалистического социума, основанного на общей либеральной интенции: «позволяйте делать (кто что хочет), позволяйте идти (кто куда хочет)». Исторический человек в западной традиции освободил себя от идей европейского гуманизма с его идеалом – человечный человек, пошёл по пути социального и военного насилия и себя, и других, причём насилия не с помощью идей (российский вариант), а с помощью вещей и оружия (западноевропейский вариант). Даже сам гуманизм европейского обывателя (индивида) чужд «милости к падшим» (бедным и униженным), он планируем и расчётливо-холоден, легко превращается в свою противоположность – антигуманизм.
Вообще говоря, гуманизм любви к человеку и «разума сердца» в Европе всегда бытийствовал в локальных социально-духовных нишах – либо привносясь христианско-евангельской верой (Ф. Ассизский, Мать Тереза, М. Л. Кинг), чуждой индивидуалистической рациональности, либо ищась во вне – то в индийской духовности (Шопенгауэр, Гессе и многие другие), то в русском духовном опыте Толстого, Достоевского, Рериха (А. Швейцер, К. Льюс и др.). Полагаем, что принципы гуманизма, всегда бывшие на обочине европейской рассудительной прагматики, формально удержались до середины ХХ столетия как результат испуга фашизмом. Но теперь антигуманизм вышел на арену в полный рост – как обратная и сущностная сторона рациональной прагматики. В локальных военных конфликтах конца ХХ столетия западный человек так низко пал, что если после второй мировой войны среди интеллектуалов Европы возник вопрос: «Можно ли после Освенцима верить в Бога?», то сейчас впору задать вопрос более радикальный: «Существует ли Бог?», вопрос, на который исторический человек всегда будет давать разный ответ. Высветился и сделался актуальным и кантовский вопрос: «Су-ществует ли в действительности человек?». США и европейские страны в локальных войнах конца ушедшего столетия умножили цену исторического антигуманного деяния «трансцендентального субъекта» ХХ века, которая и без того страшно велика, не может быть ни оправданной, ни искупимой. «Если мы, – писал Фолкнер, – в Америке дошли в развитии нашей безнадёжной культуры до того, что вынуждены убивать детей, каковы бы на то ни были причины… мы заслуживаем гибели и, очевидно, погибнем»22.
Крушение великой европейской гуманистической идеи23, ставшее особенно очевидным после событий в Югославии, быть может, становится последней вехой в развитии западной культуры. Поскольку теперь сама Европа, не прикрытая ни одеждами нацизма, ни жупелом американизма, своим ядром, в виде стран, породивших великую европейскую культуру и давших миру Леонардо да Винчи, Декарта, Гёте, Канта, Маркса, Бетховена, Швейцера, выступает как империалистическая «союзная сила» под циничными предлогами «предотвращения гуманитарных катастроф», «нарушения прав человека» и тому подобными лицемерными лозунгами. Европейский империализм, о бесчеловечной агрессивности которого писали многие русские и европейские мыслители, открыто встал на путь антигуманизма. Европа, принесшая миру образцы высочайшего взлёта человеческого духа, отвернулась от идеалов гуманизма. Здесь уместно вспомнить бердяевское: Бог человечен, человек бесчеловечен. Эгоистический псевдогуманизм обретает своё истинное лицо, перерождаясь в ксенофобию, лицемерную политику двойного стандарта. О таком «гуманизме» так пишет известная публицистка К. Мяло: «Какая уж тут Герника, какой Пикассо – полное нравственное бессилие, сопровождаемое таким же культурным бессилием»24. Потому что индивидуализм не может быть основой истинного гуманизма – гуманизма и для себя, и для другого (для всех), основой которого (и одновременно идеалом человеческой духовности во все эпохи) были жертвенность, служение иному, будущему, долгу.
Таким образом, социальное отчуждение человека, бывшее предметом размышлений марксовой философии, через индивидуализм достигло своей предельной ступени – «че-ловеческого одиночества». Основные экзистенциальные характеристики этого нового феномена, которого не знал западный человек до капитализма, глубоко осмысливались на Западе Кьеркегором, французскими экзистенциалистами, такими писателями, как Гессе, Кафка, Музиль, Фолкнер, Апдайк. Чувство абсолютной покинутости, оставленности Богом, людьми, обществом, утрата экзистенциальных опор жизни (парменидовской интуиции Бытия) – вот суть понятой ими эволюции кризиса европейской идеи гуманности и индивидуализма. Напротив, антигуманность становится опорой (гарантией) устойчивого и надёжного существования во всех социальных слоях западного общества. Мир оказывается страшен не оружием даже, а вывертом смыслов. Потому отчаяние у честного труженика на Западе вызывают не столько «рыночные» законы, по которым приходится жить, а то, что исчезло бывшее духовное и психическое пространство, в котором он жил до них. Заметим, что с этим мироощущением сейчас столкнулся российский человек, что подмечено в романе М. Бутова «Свобода»25. Главный герой романа хочет обрести достоверность бытия, где все и вся (вещи в том числе) являются «самоё себя». Итог же трагичен – «взгляд на жизнь» с позиций сумасшедшего состояния. Можно утверждать в итоге, что в буржуазном обществе произошло не просто отчуждение от человека продуктов его материальной и духовной деятельности, но отчуждение человека в предельном смысле – человек становится чужим самому себе, своей традиции, своему бытию, человеческому в человеке.
Можно ли спасти классический европейский человеческий Дух – Дух Прометея, а, следовательно, другие культуры от бесчеловечности современного западного человека? Мы не знаем ответа на этот вопрос. Возможно, его вообще нет. Но, далёкие от апокалиптики, приведём два факта. Современный учёный-американист О. Платонов, анализируя состояние американского духа, делает вывод: Америка фатально обречена, и поэтому она в ближайшие десятилетия погибнет (по данным института Харриса, лишь 17% американцев готовы отстаивать традиционные американские ценности, связанные с достижением более высокого уровня материальной жизни, а 66% – предпочли бы создание более гуманного образа жизни)26. А вот «новый взгляд на открытое общество» Дж. Сороса, пытающегося спасти своей критикой общие принципы либерализма. Он считает, что западно-либеральная система тоже рискует погибнуть от …рационалистического индивидуализма, «если наша система не будет скорректирована признанием общих интересов, которым следует отдать предпочтение перед интересами частными»27. В чём же спасение?
4. Русская традиция
Сначала отметим, что, как и в любом другом типе национальной духовности, в русском духе, русской традиции есть свои достоинства и недостатки, неотделимые друг от друга – ибо нет идеальных или, наоборот, порочных культур. Это особенно важно подчеркнуть, если мы говорим о характере русского народа в его антиномичности, о чём писал в своё время Бердяев28. В своей противоречивости это и есть та самая таинственная русская душа, которая освоила евразийский континент и принесла на него мир и спокойствие. Об этой необъятности, безмерности и полярности русского национального типа Достоевский устами Дмитрия Карамазова заметил: «Широк человек, я бы сузил». Русским народом, считал Бердяев, «можно очароваться и разочароваться, от него всегда можно ждать неожиданностей, он в высшей степени способен внушить к себе сильную любовь и сильную ненависть. Это народ, вызывающий беспокойство народов Запада»29.
«Русская идея», на наш взгляд, есть комплексное понятие для обозначения характера русской традиции и её состояний. Она представляет собой целостность, которая включает в себя идею-дух (идею-смысл) и идею-цель. Русская идея как дух и смысл метафизична и по-разному реализуется в различные эпохи, обретает конкретные земные формы (идеи-цели), но никогда полностью недостижима. Каждая идея-цель как конкретно-историческая форма идеи-смысла безусловно есть её проявление – и потому утрата всякой социальной формы каждый раз столь трагично воспринимается русскими мыслителями, русской душой. Но ни одна конкретная историческая форма идеи-смысла в действительности не есть её единственный или окончательный вариант, её нельзя считать полностью реализованной в какой-то конкретной социальной форме. Идея-дух ищет себя, одновременно стремясь к уничтожению всякой, им же порождённой, социальной формы, не обретая себя в царстве земном, всегда оставаясь в царстве духовном. Каждое земное утверждение русской идеи – результат очередной, лишь временной победы «царства кесаря» над «царством духа», вновь и вновь взывающее дух к творчеству и борьбе. Причём всякая идея-цель определяется идеей-смыслом, принципами организации духа (традицией) и жизнеспособна лишь в том случае, если отвечает ему. С другой стороны – качества самого духа во многом определяются формой очередной реализации, земным способом осуществления бытия духа.
Базовые метафизические принципы организации духа русского народа, русской идеи известны и нет оснований для их пересмотра: коллективизм, братство; в сфере духа – соборность, духовная община; державность и патриотизм; высокая духовность, правдоискательство, доходящие до свободы от материального своекорыстия; свобода духа, доходящая до анархичности; социальная справедливость, основанная на добре и правде; дионисичность, мессианство и безудержная творческая активность духа, его стихия и противоречивость; терпеливость, значительный консерватизм как восточная традиция; этика любви и коллективного спасения; благородство и великодушие, всепрощение и жертвенность; сила духа, способность к гигантской концентрации физических и духовных усилий; мужество и самопожертвование во имя правды или «общего дела». Эти принципы существуют как органическая система, отличая русских в их мировоззрении, культуре, психике от других мировых культур. Социально-духовная бытийная явленность этого комплекса в историческом пути русского народа, России и составляет то, что мы называем русской традицией, являющейся смыслом и содержанием «русской идеи». В ней (в традиции) раскрывается сущность (природа) русского народа.
Основанием социализации русского духа является коммюнотарность, которую блестящий гений Бердяева раскрыл как коренное свойство русского народа, сущность его общинного сознания, как свойство, противостоящее индивидуализму и буржуазности духа, германской идее господства и могущества, есть желание братства людей и народов30. «Русский народ самый коммюнотарный в мире народ, таковы русский быт, русские нравы», – совершенно справедливо писал Бердяев31. Многими другими русскими философами (С. Трубецкой, Флоренский, С. Булгаков, Франк, Лосский) и писателями также подчёркивалась способность русского человека к непосредственному единению душевной жизни через «чуткое восприятие чужих душевных состояний», «открытость души в отношении к чужому «я»»32. Коммюнотарность – толкатель русской души, который дополняется страстностью и могучей силой воли, исканием абсолютного добра и «жизнью по сердцу», максимализмом и порой неумеренным употреблением силы, умением замечать и побеждать свои недостатки и любовью к красоте33.
Сущностью социального бытия русской традиции является коллективизм, который выступает не просто как вид социальности, но как тип мировоззрения и ментальности, традиции, порождающей свой тип человека. Это такая альтернатива, которая в принципе противостоит несправедливости и неравенству, отрицает рабство одного человека перед другим. Коллективизм – естественный способ организации человека в обществе. И не только потому, что большинство индивидов несовершенны, но также по причине сниженного потенциала созидательности социального порядка в демократических сообществах (что поняли уже древние). Всякая попытка доказать преимущества индивидуализма на уровне абстрактных теоретических рассуждений – декларируемых свободы, равенства возможностей, беспристрастности права и прочих внешних красот демократии – не выдерживает критики и опровергается самой жизнью. История доказывает, что без большой коллективно значимой цели человек перестаёт быть человеком, возвращаясь к животному состоянию. Индивидуализм предстаёт как примитивизация высших форм человеческой жизнедеятельности, направленной на поглощение созданного, пользование сущим и деконструкцию организованных форм сущего. Коллективизм есть более высокий уровень организации человека, способный (кроме всего прочего) порождать, обусловливать надындивидуальные цели и ценности, становясь гарантированной защитой от обездушивания и прагматизации разума. Именно в коллективизме (и только в нём) создаются условия для диалектического преодоления антиномии «мир для меня» – «я для мира» на основе холистского видения: «я вместе с другими для мира». Принцип целостности бытия, целостности человеческого духа (кроме идеи Бога; он, по нашему мнению, единственный Абсолют в мире) становится здесь метафизической основой организации человеческой жизни, способной преодолеть современную «раздробленность» духа. Только целостность как принцип организации коллективистской общности («соборность» у Хомякова, «всеединство» у В. Соловьёва, «коммюнотарность» у Бердяева, София-«целомудрие» у С. Булгакова) способна стать средством для тех, кому «нужно, чтобы человек был хорош» (Бахтин). Только коллективно человек способен любить, миловать, спасать, созидать. Ибо здесь на первый план выходит не эгоистическая любовь к себе, но любовь к другому – христианская «любовь к ближнему» и русское развитие этого – «любовь к дальнему» в пространственном и временном смыслах (дальнему географически, дальнему-прошлому, дальнему-будущему).
Далее. В русской традиции не является сакральной частная собственность. Мироощущение русского человека никогда в истории не возводило историческое право собственности в «естественное право». Напомним, каким убеждённым противником купли-продажи земли был Л. Толстой. «Всемирно-историческая задача России, – пишет он, состоит в том, чтобы внести в мир идею общественного устройства земельной собственности. Русский народ отрицает собственность, самую прочную – земельную». Собственность не благо, а зло, грех, отступничество от евангельского Христа, который её судил. Поэтому «душа России – не буржуазная душа» (Бердяев). Главным в учении о человеке в русской философии, заметил А. Лосев, был социализм34. Это – общая тональность всей русской мысли за прошедшие два столетия.
Антибуржуазность русской традиции, нелюбовь русских к богатству, социалистический национальный идеал35 связаны с тем, что русская душа – не позицивистка. Русский человек не может полюбить жизнь прежде её смысла. Когда утрачивается смысл, выходящий за пределы материального бытия, он не хочет трудиться над общественным и личным благоустройством. Для русского человека жизнь полна сакрального, мистического смысла, нацеленного на поиск «потаённого бытия», скрытого смысла вещей и человеческих явлений. Этот метафизический (магически-пота-ённый) смысл явлений мотивирует поступки русского человека, те, которые противоречат здравому смыслу, эмпирическому опыту, но ведут к прорыву в новую духовную реальность. Сошлёмся на героев русских народных ска-зок – Ивана-дурака, Емелю, «чудиков» из рассказов В. Шукшина. Как правильно пишет великий русский советский писатель А. Платонов, русский человек «каменный, ещё зеленеющий мир превращает в чудо и свободу». В своей волшебной любви к революции и женщине Степан Копенкин в «Чевенгуре» ревниво осматривает куст, так ли он тоскует по Розе Люксембург; в противном случае он ссекал куст саблей. Незначительные, обыденные смыслы русскому человеку не нужны. «Всё есть, а вместе с тем ничего нет», – чисто русское восприятие нынешней российской смуты. «Утратив цель и смысл бытия, российской душе трудно, непривычно (и даже неприлично) истово заботиться о нуждах тела, – пишет А. Неклесса. – Трудно обустраивать мир, в котором нет великих далей… Отсюда, по-видимому, мелкость обсуждаемых в России тем и замыслов, почти сплошь экономических, вернее сказать, экономистических, ибо их показной экономизм – симулякр, скрывающий нищету и растерянность голого прагматизма»36. Правильно подметил Бердяев – русскому народу свойственно философствовать, «русский безграмотный мужик любит ставить вопросы философского характера – о смысле жизни, о Боге, о вечной жизни, о зле и неправде, о том, как осуществить Царство Божие»37.
Другой сильнейшей интенцией русского духа, не терпящего духовного насилия и легче переносящего насилие социальное, насилие над своим телом, является свободолюбие. Так, Ф. М. Достоевский противопоставлял русскую идею, основанную на совести и свободе духа, римской идее, основанной на принуждении духа, на насилии законов и условностей общества, порядка, организации – над духом38. Однако свободолюбие сосуществует со специфическим пониманием державности. Русский народ – народ державы. По большому счёту, смысл и цель русского духа, стержень установок России – охрана огромного евразийского пространства от разрушения, разграбления и уничтожения природы человеком, обустройство Евразии и сохранение её единства и стабильности, континентальная ответственность за Евразию, основанная на толерантности, уважении и любви к иным культурам и признании их самоценности, на коллективной защите. И при этом «русский народ, по духовному своему строю, не империалистический народ»39. Государство само по себе для русского не самоцель (особенно, когда оно есть, когда оно крепко, обеспечивает спокойствие и благополучие; как не замечается тело, когда ничего не болит). Проблема государства выходит на первое место лишь тогда, когда что-то ломается и мешает духу жить. Истинным устремлением было всегда и остаётся сейчас царство духа, мировая империя духа, но не империя пространств, которая есть лишь необходимое средство40.
В нашей литературе в основном обращается внимание на авторитарный принцип организации исторической российской государственности. Нам же хотелось бы подчеркнуть не политический, а философский аспект – идеократический способ государственного объединения русских людей. Российское государство без национально-мессианской идеи, направленной как «во вне», так и «внутрь» – исторически никогда не существовало. Власть российского государя всегда распространялась и на души русских людей, беря ответственность не только за их материальное благополучие, но и за «спасение» их душ. Идеократия была источником эксплуататорского характера российского государства, чем оно исторически отличалось от западноевропейских. Отсюда анархизм в русской душе по отношению к русскому государству (как к насилию и уже потом – злу), которое, однако, всегда в конечном счёте преодолевается уважением к нему (потому что государство как принцип – благо). Правильно понятая философия российского государства позволяет отличить так называемый «советский тоталитаризм» от западной антирусской (антисоветской) его интерпретации. Приведём точные, на наш взгляд, слова: «Что такое тоталитаризм? Это мобилизация всех сил, – пишет С. Куняев. – Это подчинение личной воли – народно-государственной необходимости, это табу на все излишества, варианты, версии, эксперименты в материальной и духовной жизни. Это ограничение права во имя долга. Вообще вся русская жизнь – это не жизнь права, а жизнь долга. Поскольку великое русское государство рождалось и жило в экстремальных исторических условиях, на тех широтах, где невозможны великие цивилизации, возникло, как «пламя в снегах», и где его рождение и развитие потребовали от народа и его вождей столь нечеловеческого, тоталитарного, мобилизационного напряжения на протяжении сотен лет, а значит, такого рода постоянный «тоталитаризм» есть естественное состояние русской жизни и русской истории. И для нас сей термин не должен быть каким-то пугалом. Без «тоталитарной прививки» к нашему историческому древу мы не могли бы существовать»41. И не сможем, добавим мы. Альтернатива одна – разрушение и уничтожение страны, а через это – и каждого человека (личности) в отдельности. Звёздным часом российской державности поэтому был советский период нашей истории. Разрыв русской традиции произошёл не в 1917, а в 1991 году. «Я считаю советский период, – справедливо убеждён А. Зиновьев, – вершиной российской истории. Не будучи апологетом коммунизма, я считаю этот период поистине удивительным. Пройдут века, и потомки будут с изумлением, с восхищением изучать это время, поражаться, как за удивительно короткий срок в стране, жившей в кошмарно трудных условиях, было сделано так много. Да, было и много плохого, были преступления, ошибки, разочарования. Но всё равно это была величайшая эпоха в истории России и один из величайших феноменов в истории человечества»42. Лучше о пассионарности русского духа не скажешь!
Этика русского духа в существе своём есть этика коллективного спасения, любви и активного добра, совести как коммюнотарного регулятора, этика справедливого воздаяния, сбережения нравственного бытия, самоотвержения, всепрощения, всеединства, уважения к иному. Моральное сознание русских (как хорошо показал Достоевский) – это и сознание страдания (и сострадания), преображающегося в счастье. «В горе счастья ищи», – поучает Алёшу Зосима. «Давно не болела, Бог забыл…», – говорили старухи в русской деревне. Моральное сознание русских потрясено горькой участью человека в мире. Отсюда – моральные мотивы русского атеизма, социализма. В этом смысле прочитываются резонирующие слова Бердяева: «…нельзя в нашу эпоху не быть социалистом, оставаясь в пределах моральности»43. Основная моральная интенция – страдание – причина того, что русский народ всегда готов к тяготам и лишениям, к страданиям; его стоицизм не знает границ. Эта особенность русских определила антропологическую специфику русской культуры. «У русской культуры, – пишет И. Ильин, – одна-единственная проблема: в ней сердце ищет преображения в страдании посредством свободного созерцания. Вот ключ к русской религии, поэзии, музыке, живописи – к русской душе»44.
Именно любовью и страданием познает и живёт («очи-щается») русский человек. Поэтому уже в древности проявилась свойственная русским историческая жертвенность во имя счастья и сохранения народов России, бескорыстие и геополитическая мудрость. История свидетельствует о том, что более 200 этносов, живших ранее на территории Западной Европы, исчезло с лица Земли45. Россия же со своим материально-духовным опытом, в том числе общения с другими народами, не только сохранила все свои этносы, но не раз спасала собственные народы и народы Европы от завоевания и уничтожения. Лишь погоня за материальными благами, буржуазный дух, принесли на постсоветское пространство вражду и взаимное уничтожение.
Считаем, что сегодня только предложенный русской культурой великий альтернативный вариант, в основе которого лежит идея коллективного спасения, всечеловечности, показывает путь истинного гуманизма и перспективу развития человечества. Военно-политическому радикализму Европы можно и нужно противопоставить социально-этический радикализм, заключающийся в выдвижении социалистических идей и в уподоблении им человечных способов бытия, которые уважают право человека на свою историю, социально-национальную Традицию, вбирающую в себя объективный исторический смысл духа своего народа. Наш радикализм рассчитан на коренное «преображение» общественного бытия нации в соответствии с духом Русской Традиции и в её пределах. Идеалом будущего «устой-чивого общества», как правильно полагает В. Кутырев, является «homo vulgaris, человек традиционный, исторический и гуманный. Человек в границах своей меры, которая задаётся культурой»46.
Конечно, коллективистский способ человеческого бытия тоже может породить свою противоположность – антигуманизм. Однако мы верим, что будущее состояние человеческого духа за коллективизмом, т. к. цели (идеалы) коллективистских обществ способны выражать прогрессивную органическую национальную идею и пассионарную энергию «прорыва» к социальной справедливости и свободе, к освобождению от люциферических искушений человека – культа власти и богатства. Цели коллективистских обществ, реализуемые порой не так и не полно, несут в себе великую гуманистическую идею, тогда как индивидуализм изначально выдвигает низменные и неприглядные в самой своей сути идеи-цели– своекорыстие, алчность, властолюбие. Поэтому коллективизм – это прорыв «демократичес-кой» оболочки рабства к справедливости, свободе личности, свободе народов. Поэтому основная проблема, которую сегодня решает русский человек, носит общечеловеческий характер.
5. О будущем России
Небольшое гносеологическое пояснение. Во всякой традиции человек находит смысл бытия, который при этом не рационализируется (это удел философского сознания). Применительно к традиции можно говорить лишь о «гнозисе» в его старом метафизическом (религиозном) смысле как живом и конкретном переживании (вере) смысла бытия своего мира, народа, как диалектическом синтезе мыслей и верований многих поколений. Поэтому человек должен быть «консерватором» по отношению к гнозису («истинам») традиции, уже открытым в прошлом. Всякие призывы к «созданию новой национальной идеи» представляются нам поэтому политическим субъективизмом и релятивизмом по невежеству. «Истина не с меня начинается, – отмечал Бердяев, – и я бы не поверил в истину, которая с меня начиналась бы… Раскрытие истины мной, моим поколением лишь продолжается и я обязан быть не только революционером, но и консерватором»47.
Для нас очевидно, что та идея-цель, которую выстрадало русское мировоззрение, начиная с Радищева, пусть противоречиво, но реализовалась в условиях социализма. Социализм на практике раскрыл тайну народа, которую пытались спекулятивно и мистически постигнуть русские мыслители. Да и был он скорее не социализм в европейском и марксистском смысле этого понятия, а попыткой построения моральной общины на основе государственного насилия. Произошло то, о чём мечтали многие русские философы прошлого и начала 20-го столетия – «духовно-культурный подъём самих недр русской народной жизни»48, раскрытие его духовной активности. Потому что социализм (русский коммунизм), в чём мы согласны с Бердяевым, Зиновьевым и другими авторами, близок характеру русского народа и других народов России. Он усиливал этот характер, помог мощно проявиться ему. Тот самый характер, который, вырабатываясь веками, «складывается однажды в его истории, складывается раз и навсегда»49. Самобытный тип души, который был выработан её историей и навеки утверждён, со второй половины ХХ века начинает действительно утверждать себя положительно в мощи, в творчестве, в свободе, на что уповал в своё время Бердяев50. Сейчас, в ситуации ощущения преданности, униженности, оскорбления национального духа должно начаться рождение новой политической формы, которая оформляет нашу идеократию на основе, верим мы, возвращения к русской традиции. Русский национальный дух не умер, он возрождается и возродится, ибо «духовная жизнь не может быть угашена, она – бессмертна»51. Именно дух русского народа, с нашей точки зрения, – отправная методологическая идея всех историософских построений, имеющих целью «спасение» России.
Социально-политические события последних 2-3-х лет ушедшего тысячелетия рельефно показали, что до сих пор можно с уверенностью сказать о нашем народе словами И. Ильина: «Россия – это не пыль и не хаос. Это – прежде всего великий народ, не промотавший свою силу». Это подтверждается обобщёнными данными социологических опросов 1995–1999 годов, показывающими современное состояние русского духа: 87% – сторонники государственной собственности в ведущих отраслях экономики, свыше 80% – против купли-продажи земли; стремление к спокойной совести и душевной гармонии, семье и дружбе как основным жизненным целям (ценностям) выражает около 90% россиян. Установку «просто жить» и «зарабатывать деньги» приняло около 2% россиян. Государство по-преж-нему остаётся идеократическим началом, и 85% россиян считает, что оно должно нести ответственность за повышение материального благосостояния каждой семьи (а не заниматься формальным обеспечением прав и сбором налогов). И именно государство (по русской психологии) должно выдвинуть и обосновать некоторую всеобщую цель (начало начал конструктивного системного строительства), принимаемую в качестве российской национальной идеи52. При этом пора понять, что только если поднимем, укрепим русский дух, изменим общественный строй России, – вернётся сила, противостоящая и спасающая человека от агрессивной идеологии «золотого миллиарда» протестантов. Человека надо учить быть народом – важно выступить, не устрашиться, как в своё время от Куликова поля, и тогда дух русского народа вернётся к своему национально-соци-альному идеалу, своей традиции. Ибо Русская Традиция – вот единственный и предельный источник нашей силы, «мужества быть», которое способно принять на себя все тревоги, заботы и надежды русского бытия в период «страшных лет России». Традиция или небытие.
1 Цитируется по: Москва. 1999. № 8. С. 212.
2 Зеньковский В. В. Русские мыслители и Европа. М., 1997. С. 63.
3 Там же. С. 15.
4 Там же. С. 23.
5 Там же. С. 44.
6 Там же. С. 57.
7 Зеньковский В. В. Русские мыслители и Европа. М., 1997. С. 73.
8 Там же. С. 78.
9 Там же. С. 85.
10 Например, в этнографии, этнологии, политологии, где понятие традиции используется преимущественно в аспекте анализа «ритуалов», «обычаев», «национальной психики» или популярного сейчас понятия «менталитет».
11 В значительной мере именно в этом понимании применяется понятие «традиция» (как «предание», «обычай», «ментальность» и т. д.), например, в работе: Курашов В. И. Нация в общечеловеческом и российском измерениях. Казань, 1999. С. 6, 11.
12 См.: Кутырев В. А. Традиция и ничто // Философия и общество. 1998. № 6. С. 182.
13 См.: Булгаков С. Н. Свет невечерний. М., 1994. С. 271.
14 Бердяев Н. А. Новое религиозное сознание и общественность. М., 1999. С. 153.
15 См.: Бердяев Н. А. Философия творчества, культуры и искусства. М., 1994. Т. 2. С. 229.
16 История не знает нетоталитарного бытия людей, основывающегося на тотальных свойствах человека и тотальных принципах организации человеческой жизни. Но типы тотальностей (и типы демократий) различны, и лишь идеологическое прочтение истории может поставить на одну планку принципиально противоположные типы обществ, каковыми являлись, например, фашизм и национал-социализм, с одной стороны, и русский коммунизм – с другой (см., например: Ивин А. А. Введение в философию истории. М., 1997), или русская (истинная) и европейская демократии. Даже кафковский «Замок», оруэлловский «1984», а ещё раньше «Легенда о Великом инквизиторе» Достоевского – больше социально-философская пародия на европейский тип тоталитаризма, чем на российский.
17 См.: Дж. Ролз. Теория справедливости. Новосибирск, 1995.
18 Цит. по: Бердяев Н. А. Новое религиозное сознание и общественность. М., 1999. С. 375.
19 Тургенев И. С. Соч.: В 12 т. Т. 7. М., 1981. С. 78.
20 См. их анализ в книге: Кувакин В. Твой рай и ад: человечность и бесчеловечность человека (Философия, психология и стиль мышления гуманизма). СПб., М., 1998. С. 182–258.
21 Даже швейцеровская концепция благоговения перед жизнью оказалась непонятой на Западе. В России же она имела своего выдающегося предтечу Л. Толстого, оказавшего, в отличие от воздействия Швейцера на Европу, огромное влияние на духовное совершенствование русского самосознания.
22 Цит. по: Советская Россия. 1999. 16 сентября. С. 5.
23 Гуманистов объединяет нечто общее. «Этим общим является, – пишет В. Кувакин в своей новой интересной книге, – ярко выраженные человечность, любовь и уважение к человеку, забота о нём, о его свободе, достоинстве, благе, общении, праве и ответственности и многом другом, с чем связывали они идеалы подлинного человека, его достойного образа жизни». (Кувакин В. Указ. соч. С. 41.) Как это мало похоже на военно-политическую практику США и Европы!
24 Мяло К. Право на историю // Наш современник. 1999. № 8. С. 165–166.
25 Новый мир. 1999. № 1, 2.
26 См.: Платонов О. Почему погибнет Америка // Наш современник. 1998. № 10. С. 189.
27 Цит. по: Кутырев В. А. Устойчивое общество: его друзья и враги // Москва. 1999. № 3. С. 162.
28 См., например: Бердяев Н. А. Русская идея (О России и русской философской культуре). М., 1990. С. 44–45.
29 См., например: Бердяев Н. А. Русская идея (О России и русской философской культуре). М., 1990. С. 43–44.
30 Бердяев Н. А. Русская идея // Бердяев Н. А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли ХIХ века и начала ХХ века. Судьба России. С. 219.
31 Там же. С. 86 и др.
32 См.: Лосский Н. О. Характер русского народа // Лосский Н. О. Условия абсолютного добра: Основы этики; Характер русского народа. М., 1991. С. 258.
33 См.: Бердяев Н. А. Судьба России // Бердяев Н.. Русская идея. Основные проблемы русской мысли ХIХ века и начала ХХ века. Судьба России. С. 263–273, 292, 304–306.
34 См.: Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. М., 1991. С. 512.
35 Подробнее об этом см. в работе: Андреев А. П. Мысли Н. А. Бердяева о судьбе России и современность // Философский космос России. Уфа, 1998. С. 11–12.
36 Неклесса А. Творческий континент Россия // Москва. 1999. № 8. С. 117.
37 Бердяев Н. А. Судьба России // Бердяев Н. А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли ХIХ века и начала ХХ века. Судьба России. С. 68.
38 Бердяев Н. А. Судьба России // Бердяев Н. А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли ХIХ века и начала ХХ века. Судьба России. С. 134.
39 Там же. С. 188.
40 Подробнее см.: Селиванов А. И. Бытие и постижение развивающихся миров. Уфа, 1998.
41 Куняев С. Поэзия. Судьба. Россия (книга воспоминаний и размышлений) // Наш современник. 1999. № 4. С. 189–190.
42 Зиновьев А. А. Посткоммунистическая Россия. М., 1996. С. 198.
43 Бердяев Н. А. Новое религиозное сознание и общественность. М., 1999. С. 166.
44 Ильин И. Указ. соч // Москва. 1996. № 6. С. 182.
45 См.: Осипов Г. В. Россия: национальная идея и социальная стратегия // Вопросы философии. № 10. 1997. С. 6–7.
46 Кутырев В. Устойчивое общество: его друзья и враги // Москва. 1999. № 3. С. 163.
47 Бердяев Н. А. Новое религиозное сознание и общественность. М., 1999. С. 5.
48 Бердяев Н. А. Судьба России // Бердяев Н. А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли ХIХ века и начала ХХ века. Судьба России. С. 287.
49 Зиновьев А. А. Указ. соч. С. 325.
50 См.: Бердяев Н. А. Судьба России // Бердяев Н. А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли ХIХ века и начала ХХ века. Судьба России. С. 283.
51 Там же. С. 217.
52 См.: Андреев А. Экономика «виртуальная» или реальная? // Москва. 1999. № 5. С. 116–118.
«Индивидуализм делает нас уязвимыми». Традиционные ценности снова в тренде? | ОБЩЕСТВО
О кризисе семьи в последнее время говорят всё чаще. На юге России это особенно «больная» тема. По статистике ЗАГС, разводом заканчивается едва ли не каждый второй брак. Одна из причин в том, что изменилось понимание счастья. В старые времена его строили с оглядкой на мнение общества, и главным элементом считалась семья. Сегодня, по мнению кандидата исторических наук Игоря Васильева, «старая» модель счастья вступает в пору ренессанса.
Игорь Васильев. Родился в 1979 году. Диссертацию защитил на тему «Государство и общество в системе ценностей кубанских казаков. Конец XVIII — начало XX вв.». Сфера научных интересов: история и культура населения Кубани, изучение ценностных систем и ментальности, проблемы циклизма в историческом развитии. В 2016-2018 гг. разработал нанофутуризм — направление в искусстве и стиль жизни.Умный, но бедный
Светлана Лазебная, «АиФ-Юг»: Игорь Юрьевич, почему в контексте «счастье» в казачьем фольклоре в первую очередь упоминается семья?
Игорь Васильев: В традиционной казачьей семье, если она приближалась к идеалу счастливого семейства, все соответствовали своим половозрастным ролям. К родителям обращались на «вы». Отца называли «папа», «батя», мать — «мама», к старшей сестре — «нянька» (в большой семье девочка играла огромную роль в уходе за маленькими). Младшие подчинялись старшим, помогали, делали с это с душой. Важны были материальный достаток, репутация.
— Фраза «Если ты умный, то почему такой бедный» была актуальна и 200 лет назад? Правда ли, что казаки не уважали бедных?
— Казачье общество нетерпимо было к лодырям, пьяницам и неумехам. Если человек по этим причинам был беден, его могли презирать. Могли выселить из станицы. Например, в 1873 году общество станицы Переправной на Кубани обратилось к баталпашинскому уездному начальству с просьбой «определить на содержание в исправительное учреждение» окончательно спившегося казака Голикова. Ранее общество принимало меры для его исправления. Голикова определяли в зятья к казаку, не имевшему сыновей, отдавали под надзор станичникам, бравшим его в работники… Не помогло.
До революции развод для православных был возможен, но не реален.
— Но ведь бывает бедность по уважительным причинам?
— Конечно, и это совсем другое дело. Земельные паи выделялись семье на сыновей, а именно земля давала пропитание. Казак мог быть беден, если у него рождались только дочери. Ему сочувствовали, давали в долг на льготных условиях. Если с казачьей семьёй случалось несчастье, например, она теряла имущество в пожаре, в стихийном бедствии, то станичное общество, родные и соседи немедленно организовывали «скорую помощь», помогали, как раньше говорили, «всем миром».
Кто «выпячивается»
— Известно, что в «старой» казачьей семье главным был мужчина. А почему не женщина — жена, мать, хозяйка?
— Основой благосостояния были не домашние, а полевые работы, скотоводство. Поэтому мужчина, как более сильный, был «главнее». Он должен был быть достаточно крепок и здоров для того, чтобы нести службу, заниматься хозяйством, решением семейных проблем. Главой семьи могла стать и казачка, но вынужденно. В случае если муж умер или погиб. И она в одиночку «поднимала» детей. Вообще, в старые времена, женщины «не выпячивались», это осуждалось. Ценилась и была востребована в девушках и женщинах внешняя и внутренняя опрятность, целомудрие. Казачки берегли свою честь, рождение внебрачного ребёнка было редкостью. Если такое всё же случалось, парни собирались у дома «позорницы», свистели, орали, сквернословили, пели неприличные песни, забрасывали дом камнями, а иногда даже избивали заступавшихся за женщину родственников и соседей. Как известно, к зачатию причастны два человека. Спрашивали в большей степени с женщины, но и с мужчины — тоже. Также молодёжь, и в особенности родственники, могли спросить и с того, кто «позорил». Так, очень жёстко сохранялись семейные ценности. Способствовали этому и невероятные трудности с разводом.— Но если муж с женой не сошлись характерами, разве это не дело двоих — решение о расторжении отношений?
— Сто-двести лет назад разводы, мягко говоря, не были в моде. Редкостью они перестали быть ближе к концу XX столетия. До революции развод для православных был возможен, но не реален. Причины должны были быть вескими: «прелюбодеяние», «безвестное отсутствие» и «неспособность к брачному сожитию». Решение (далеко не всегда положительное) принималось духовной консисторией при епархиях и утверждалось Святейшим Синодом.
— Всё-таки были такие случаи?
— Единичные, о которых мало достоверных свидетельств. На развод люди не решались главным образом потому, что для обоих супругов он становился тяжёлым, часто непоправимым ударом по репутации. Разводившиеся публично выставляли напоказ не только свои грехи, но и неумение договариваться друг с другом. Разногласия внутри семьи в общем понимании были недостаточным аргументом к тому, чтобы её рушить. Отсюда такая острая реакция и на разводы, и на внебрачные связи.
«Первая баба-геройка»
— Почему чужому мнению — что люди скажут или подумают — придавалось такое огромное значение?
— Люди многое делали сообща, зависели от поддержки других. Например, когда строилась саманная хата, соседи, родственники, друзья приходили помогать месить глину. Совершенно бесплатно, но при условии: хозяин и его родня должны были пользоваться в станице уважением.
Для поддержания репутации было крайне важно уметь держать слово, вовремя отдавать долги. Если казак давал в долг, то обычно делал «для памяти» зарубку на деревянной поверхности. Были случаи, когда должник не мог расплатиться, а кредитор решал его простить и счистить зарубку. Должник умолял не счищать, не прощать! Это был позор — прослыть несостоятельным. Казак, ведущий традиционный образ жизни, должен был ощущать, что он «люб» обществу. Для этого его личные достижения должны были совпадать с общепринятыми ценностями. Уважались рачительность, храбрость, боевые награды как свидетельство проявленной доблести. Чины ценились — офицерские и унтер-офицерские. Кстати, воинская система ценностей не обошла стороной и женщин. В начале XIX века, во время нападения горцев на Полтавский курень, казачка Ульяна Линская утопила одного из нападавших в бочке с квасом. Ульяну чествовали как «первую бабу-геройку».
— Как после революции менялись приоритеты, определяющие счастье, в какой момент семья в этом контексте ушла на второй план?
— Индустриализация и урбанизация XIX — XX веков существенно подорвали институт семьи во всех промышленно-развитых странах мира. Россия не исключение, Кубань, пережившая кровавое расказачивание, тем более. Если обозначить пунктиром, то всю первую половину ХХ века счастьем была сама жизнь. Наверное, нет семьи на юге, которой бы не коснулись голод, репрессии, война. Но вот когда мирная жизнь стала налаживаться, Гагарин полетел в космос, значимой стала самореализация — профессиональная и творческая. Основные материальные потребности для большинства были, наконец, обеспечены, пусть и на достаточно скромном уровне. Профессиональные достижения, чем бы ни был занят человек, были важны для страны. Вспомните социалистическое соревнование, доски почёта. 20-30 лет назад приоритетным было материальное благосостояние, что объяснимо. После распада СССР люди стали стремиться к дотоле малодоступному обогащению, обретению символов роскоши. Сервиз «Мадонна», кроссовки, кожаная куртка, машина «девятка», а потом и «мерседесы», «БМВ».
Семья была счастлива, если общество говорило: «Любо!»
— И сегодня все хотят быть богатыми, разве нет?
— Люди не хотят быть нищими, а это несколько другое. Сейчас многие, в том числе молодые, считают, что достижение материального богатства сопряжено с чрезмерными усилиями и рисками. Поэтому многие стремятся жить в комфортной среде, поддержание которой не требует стяжательства и сверхусилий. На мой взгляд, обозначился тренд — нанофутуризм — стиль жизни, основанный на минимализме, многофункциональности, простоте. Возможно, это парадоксально, но я убеждён, что именно сегодня, с огромным количеством разводов и неполных семей, мы имеем шанс вернуться к старой модели «традиционной счастливой семьи». Индивидуализм, неумение строить и беречь отношения сегодня делает людей уязвимыми. «Старая», простая, понятная и логичная модель семьи с родовыми связями, выстроенными на принципах взаимопомощи, отлично отзывается на запросы современности.
Справка Нанофутуризм – направление в искусстве и стиль жизни, основанный на минимализме и многофункциональности, простоте и емкости. Разработан писателем и историком И. Ю. Васильевым. Подразумевает экономность, мобильность, лёгкость, активность. Противоположен громоздкому, вялому, неудобному. Ориентирован на малые литературные формы и и 3D-технологии, носители информации, совмещающие компактность и ёмкость. В рамках нанофутризма Васильевым с несколькими соавторами (Иван Карасёв, Иван Кротов) к 2016 году был разработан новый литературный жанр – хайку-верлибр.Романтизм: материалы к изучению темы
Не подражай: своеобразен гений
И собственным величием велик…
Е. Баратынский
В истории художественной культуры романтическое искусство – необычайно своеобразное и значительное явление. Романтизм – эстетическая система, возникшая на рубеже 18 и 19 вв. и составившая целую эпоху в художественном развитии человечества. Какова специфика этого искусства? Существовало ли оно в последующее время, существует ли в наши дни? Чтобы ответить на эти вопросы и дать определение изучаемому понятию, необходимо раскрыть систему его признаков.
Нет, я не Байрон, я другой.
М.Ю. Лермонтов
Романтизму свойственны индивидуализм, отрешение от реальной действительности, мечта об идеале, стремление к свободе и многое др.
Для того чтобы отдельные признаки сложились в стройную систему, нужно выделить какое-то объединяющее начало. Оно заключается в особом характере отношений человека и мира, который отображается в романтических произведениях, в особой роли личности, которая выступает и в качестве героя произведения, и как его автор.
Известный литературовед А.Н. Веселовский связывал главную идею романтической литературы со свободой «самовыявления человеческой личности», исследователь И.И. Замотин назвал «основным мотивом романтизма… индивидуализм, доведённый… до высокого культа личности». Романтики считали, что только отдельная личность имеет значение, а противостоящий яркой индивидуальности мир находится в её власти.
Что это за личность? Какими качествами она должна обладать? Романтики стремились создать такое искусство, которое способно соединить разум и чувство, показать неповторимое внутреннее содержание отдельного человека, вобрать в себя характерные особенности прежнего искусства, но быть свободным от строгих жанровых канонов. Объединить эти различные начала, переработать их и воплотить в произведении может только творческое, неповторимое, гениальное «Я». Понятие гениальности становится главным в романтизме, потому что гениальность – это «способность создать то, чему нельзя научиться» (Кант).
Невозможно научиться творчеству, оригинальности, индивидуальности, внутренней свободе. По каким канонам «сердцу высказать себя» (Тютчев)? Поэтому «Гений стоит выше правил. Он устанавливает законы» (Кант). Такими теперь видятся автор (стиль которого неповторим) и его герой (с острыми внутренними противоречиями, противоположными стремлениями, контрастными свойствами), воплощающий основное содержание романтического произведения.
Итак, романтизм открыл для искусства личность как таковую – неповторимую своими индивидуальными чертами («я другой» Лермонтов) и своим внутренним содержанием («Есть целый мир в душе твоей» Тютчев).
Этот основной признак объединяет, подчиняет все другие, из него проистекающие.
Век шествует путём своим железным.
В сердцах корысть, и общая мечта
Час от часу насущным и полезным
Отчетливей, бесстыдней занята.
Исчезнули при свете просвещенья
Поэзии ребяческие сны,
И не о ней хлопочут поколенья,
Промышленным заботам преданы.
Баратынский
Как художественная система романтизм сложился на рубеже 18 и 19 вв., в эпоху решительной смены феодализма капитализмом. В процессе разрушения старых общественных отношений и рождения новых порывались, казалось, всякие связи между людьми, и человек представлялся совершенно обособленным от общества. В романтическом сознании это преломлялось в виде полной независимости человека от условий его жизни, в виде абсолютной собственной ценности личности и её неограниченных возможностей. К тому же в общественном сознании царил дух разочарования в новой, зарождающейся капиталистической цивилизации. Неприятие буржуазного образа жизни, протест против пошлости и прозаичности, бездуховности и эгоизма новых отношений обрели у романтиков особую остроту. Реальность нового времени явилась иррациональной, неподвластной разуму, полной тайн и непредвиденностей, а современное мироустройство с обострившимися контрастами и духовной опустошённостью, оказалось противным природе человека и его личной свободе. Неверие в прогресс (промышленный, политический, научный, общественный) постепенно разрасталось до «космического пессимизма», сопровождалось настроениями безнадёжности, отчаяния, «мировой скорби».
Романтики сошлись в том, что реально существующие условия жизни враждебны человеку. Из такого мира нужно бежать или менять его.
Изменение «страшного мира», переход к идеальному обществу, по убеждению романтиков, будет осуществляться «силой примера», личной изобретательной деятельностью человека. Возникает тип нового героя с индивидуальным характером и внутренне независимым ни от кого и ни от чего: ни от Бога, ни от человеческой природы, ни от внешних обстоятельств, он ценен сам по себе. В реальной жизни самым ярким выражением романтического типа сознания и деятельности был культ Наполеона, пред Наполеоном преклонялись как перед великой личностью.
Ему, погибельно войною принуждённый,
Почти весь свет кричал: ура!
М.Ю. Лермонтов. Наполеон
Не находя в окружающем мире никакого положительного содержания, романтики искали это содержание вне условий своего существования: «Покинул он родной предел». (Пушкин), вне реальной действительности «В уме своём я создал мир иной» (Лермонтов), в истории прошлого, в экзотических странах, в освободительном движении, в мечте, в фантастических представлениях об идеальных условиях человеческой жизни, в грёзах о гармонии личного и общественного бытия.
Свобода радуется бурям,
Смотри: как боги, юноши глядят!
Ломает Сила стены древних тюрем,
Бледнеет коронованный Разврат.
А Гений Правды, вечный возмутитель,
Уже раскинул гневные крыла,
И в молнии, в грома одетый Мститель
Шлёт за победой грозного Орла.
Фр. Гельдерлин
Герой-романтик не только бежит от мира, как Чайльд-Гарольд Байрона или герой «Кавказского пленника» Пушкина, он может властвовать над средой, как Конрад в «Корсаре» Байрона, или стать освободителем, спасителем людей, как герои «Восстания Ислама» Шелли. Но во всех случаях характер романтического героя обусловлен собственным достоянием его личности. По словам М. Горького, романтизм «возносит личность выше общества, показывает её источником таинственных сил, награждает человека чудесными способностями».
Отметим ещё, что независимость романтического героя от всех и вся, неповторимость и гениальность, делают его сознание уединённым, что, в свою очередь, обрекает героя на одиночество, несчастья в любви, в отношениях с другими. Отсюда характерные для романтизма мотивы опустошённости, обмана, одиночества, бегства, тоски, страданий и смерти, неразделённой любви и дружбы.
Определим теперь в целом основные творческие принципы и методы романтического искусства.
|
Романтизм – художественное отображение жизни через изображение самоценной личности (независимой от окружающей действительности и устремлённой в идеальный мир) посредством свободной (вне строгих жанровых канонов) и неповторимой художественной манеры (стиля) автора. |
Господство романтизма в художественной культуре человечества приходится на первую треть 19 в. Но романтизм продолжает развиваться и в дальнейшем – в течение всего 19 в. и в 20 в. Всякий раз, когда общественные силы так или иначе оказываются в состоянии кризиса, переходности, неопределённости, возникают условия для дальнейшего развития романтического искусства. Примером тому является творчество поэтов-символистов к.19 – н. 20 вв., произведения М. Горького, Е. Шварца, А. Грина и др. писателей.
Романтики явно преувеличивали самоценность отдельной личности, но само по себе утверждение этой самоценности явилось великим художественным открытием романтизма, сблизившим искусство с реальной человеческой жизнью. Ведь и в реальной действительности каждый человек индивидуален и неповторим. Осознание человеком своего внутреннего «Я» – необходимая ступень к открытию и познанию личности другого человека.
Романтики о романтизме
Фридрих Шлегель «Фрагменты»
Чем люди являются среди прочих творений земли, тем являются художники по отношению к людям.
Благодаря художникам человечество возникает как цельная индивидуальность. Художники через современность объединяют мир, прошедший с миром будущим. Они являются высочайшим духовным органом, в котором встречаются друг с другом жизненные силы всего внешнего человечества и где внутреннее человечество проявляется прежде всего…
Философия поэта – это творческая философия, исходящая из идеи свободы и веры в неё…
Романтическая поэзия бесконечна и свободна и основным своим законом признаёт произвол поэта, который не должен подчиняться никакому закону.
Новалис «Фрагменты (о сущности поэзии)»
Поэзия есть абсолютно реальное… Чем поэтичнее, тем истиннее…
Сфера поэта есть мир, собранный в фокус современности… Всё может оказаться поэту на пользу, он должен лишь смешать всё со стихией духа, он должен создать целостный образ,… изображать и общее и частности – всяческий образ, по сути, составлен из противоположностей. Свобода связываний и сочетаний снимает с поэта ограниченность.
Жермена де Сталь «О поэзии классической и романтической»
Для эпических поэм и античной трагедии характерна своеобразная простота, которая происходит оттого, что люди в то время отождествляли себя с природой и думали, что их жизнью управляет судьба. Человек мало размышлял, и его внутренняя жизнь всегда проявлялась внешне; даже совесть изображалась с помощью материальных предметов, и от факелов, несомых фуриями, волосы шевелились на голове у преступников. В древности деяние означало всё; в новые времена бóльшее значение приобретает характер, и тревожное раздумье, которое часто терзает нас, подобно грифу Прометея, показалось бы безумием среди определённых и ясных отношений, существовавших в древнем обществе и государстве.
Поэзия древних как искусство прозрачнее, поэзия нового времени вызывает больше слёз; но дело не в отличиях классической поэзии от романтической, а в том, что одна подражательна, а другая исполнена вдохновения.
Методологический индивидуализми методологический институционализм | Кирдина
1. Автономов В. С., Ананьин О. И., Макашева Н. А. (ред.) (2001). История экономических учений: Учебное пособие. М.: ИНФРА-М
2. Автономов В. С. (сост.). (1992). Австрийская школа в политической экономии: К. Менгер, Е. Бём-Баверк, Ф. Визер. М.: Экономика
3. Автономов В. С. (2010). От «экономического империализма» к стремлению к обогащению // Общественные науки и современность. № 3. C. 173—176
4. Автономов В. (2013). Абстракция мать порядка? (Историко-методологические рассуждения о связи экономической науки и экономической политики) // Вопросы экономики. № 4. С. 4—23
5. Ананьин О. И. (2002). Компаративистика в методологическом арсенале экономиста: Научный доклад. М.: Институт экономики РАН.
6. Ананьин О. И. (2013). Онтологические предпосылки экономических теорий. М.: Институт экономики РАН
7. Аршинов В. И. (2001). Редукционизм // Новая философская энциклопедия: в 4-х т. Т. 3. М.: Мысль
8. Балацкий Е. В. (2012). За пределами «экономического империализма»: преодоление сложности // Общественные науки и современность. № 4. С. 138—149
9. Бессонова О. (2012). Институциональная матрица для модернизации России // Вопросы экономики. № 8. C. 122—144
10. Блауг М. (1994). Экономическая мысль в ретроспективе. М.: Дело
11. Бор Н. (1961). Атомная физика и человеческое познание. М.: Изд-во иностранной литературы
12. Веблен Т. (2006 [1898]). Почему экономическая наука не является эволюционной дисциплиной? // Истоки. Из опыта изучения экономики как структуры и процесса. M: Изд. дом ГУ—ВШЭ
13. Вудфорд М. (2012). Что не так с экономическими моделями (Ответ Джону Кэю) // Вопросы экономики. № 5. C. 14—21
14. Давыдов Ю. Н., Филиппов А. Ф. (сост.) (1990). Современная западная социология. Словарь. М.: Изд-во политической литературы
15. Дзарасов С. С. (ред.) (2004). Теория капитала и экономического роста: учеб. пособие. М: Изд-во МГУ
16. Дози Дж. (2012). Экономическая координация и динамика: некоторые особенности альтернативной эволюционной парадигмы // Вопросы экономики. № 12. С. 31— 55
17. Допфер К. (2008). Истоки мезоэкономики // Эволюционная теория, теория самовоспроизводства и экономическое развитие: Материалы 7-го международного симпозиума по эволюционной экономике. М: Институт экономики РАН
18. Иванов В. Н. (гл. ред.) (2003). Социологическая энциклопедия. Т. 1. М.: Мысль.
19. Кейнс Дж. М. (2012). Общая теория занятости, процента и денег. М.: Гелиос АРВ.
20. Кирдина С. Г. (2001). Институциональные матрицы и развитие России. Новосибирск: ИЭиОПП СО РАН.
21. Кирдина С. Г. (2007). Модели экономики в теории институциональных матриц // Экономическая наука современной России. № 2. С. 34—51.
22. Клейнер Г. Б. (2013). Системная экономика как платформа развития современной экономической теории // Вопросы экономики. № 6. С. 4—27.
23. Коммонс Дж. (2007 [1936]). Институциональная экономика // Экономический вестник Ростовского университета. Т. 5, № 4. С. 59—70.
24. Кузьмина М. А. (2006). Метафора как элемент методологии современного научного познания // СОЦИС. № 2. С. 42—51.
25. Кун Т. С. (1975). Структура научных революций. М.: Прогресс.
26. [Kuhn T. S. (1975). The Structure of Scientific Revolutions. Moscow: Progress.]
27. Кэй Дж. (2012). Карта — не территория: о состоянии экономической науки // Вопросы экономики. № 5. C. 4—13.
28. Лившиц В. Н. (2013). Основы системного мышления и системного анализа. М.: Институт экономики РАН.
29. Марача В. Г. (2003). Структура и развитие науки с точки зрения методологического институционализма // Методология науки: проблемы и история. М.: ИФ РАН.
30. Нельсон Р., Уинтер С. (2002). Эволюционная теория экономических изменений. М.: Дело.
31. Нестеренко А. Н. (2002). Экономика и институциональная теория. М: УРСС.
32. Норт Д. (1997). Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Фонд экономической книги «Начала».
33. Ольсевич Ю. Я. (2007). О психогенетических и психосоциальных основах экономического поведения // Montenegrin Journal of Economics. Т. 3, № 6. С. 13—41.
34. Ольсевич Ю. Я. (2013). Современный кризис «мейнстрима» в оценках его представителей (предварительный анализ). М.: Институт экономики РАН.
35. Осипов Г. В., Москвичев Л. Н. (ред.) (2010). Социологический словарь. М.: Инфра-М.
36. Поланьи К. (2002). Экономика как институционально оформленный процесс // Экономическая социология. Т. 3, № 2. С. 58—69.
37. Полтерович В. М. (2011). Становление общего социального анализа // Общественные науки и современность. № 2. С. 101—111.
38. Радаев В. В. (2008). Экономические империалисты наступают. Что делать социологам? // Общественные науки и современность. № 6. С. 116—123.
39. Райт Э. О. (2007). Что такое аналитический марксизм? // Вопросы экономики. № 9. С. 121—138.
40. Смирнова Н. М. (2000). Антропоцентризм // Новая философская энциклопедия. Т. 1. М.: Мысль.
41. Сопин В. С. (2009). Эволюционная теория в экономической науке: проблемы и перспективы // Проблемы современной экономики. № 3. С. 68—73.
42. Тамбовцев В. Л. (2008). Перспективы «экономического империализма» // Общественные науки и современность. № 5. С. 129—136.
43. Фролов Д. П. (2002). Институционализм в метаконкуренции экономических теорий // Материалы научной сессии, Волгоград, 22—28 апреля. Вып. 1: Экономика и финансы. Волгоград: Изд-во ВолГУ.
44. Фролов Д. П. (2008). Методологический институционализм: новый взгляд на эволюцию экономической науки // Вопросы экономики. № 11. С. 90—101.
45. Хаиткулов Р. Г. (2009). Феномен аналитического марксизма // Сборник докладов участников Российского экономического конгресса. М: ИЭ РАН.
46. Ходжсон Дж. (2003). Экономическая теория и институты. Манифест современной институциональной экономической теории. М: Дело.
47. Худокормов А. Г. (ред.) (2007). История экономических учений (современный этап). М.: Инфра-М.
48. Худокормов А. Г. (2009). Экономическая теория: Новейшие течения Запада. М.: Инфра-М.
49. Шаститко А. Е. (2002). Новая институциональная экономическая теория. 3-е изд. М.: ТЕИС.
50. Шумпетер Й. А. (2004). История экономического анализа. Т. 2. СПб.: Экономическая школа.
51. Agassi J. (1960). Methodological Individualism // Modes of Individualism and Collectivism / O’Neil J. (ed.). L.: Heinemann.
52. Agassi J. (1975). Institutional Individualism // British Journal of Sociology. Vol. 26, No 2. P. 144—155.
53. Becker G. S. (1976). Economic Approach to Human Behaviour. Chicago: University of Chicago Press.
54. Coase R. H. (1984). The New Institutional Economics // Journal of Institutional and Theoretical Economics. Vol. 140, No 1. P. 229—231.
55. Dugger W. M. (1990). The New Institutionalism. New But Not Institutionalism // Journal of Economic Issues. Vol. 24, No 2. P. 423—431.
56. Edgeworth F. Y. (1881). Mathematical Psychics. L.: C. Kegan Paul.
57. Eucken W. (1939). Die Grundlagen der Nationalökonomie. Jena: Gustav Fischer.
58. Eucken W. (1965). Grundsätze der Wirtschaftspolitik. Reinbek: Rowohlt.
59. Furubotn E. (1993). The New Institutional Economics. Recent Progress; Expanding Frontiers // Journal of Institutional and Theoretical Economics. Vol. 149, No 1. P. 1—10.
60. Hodgson G. (2007). Institutions and Individuals: Interaction and Evolution // Organization Studies. Vol. 28, No 1. P. 95—116.
61. Jarvie J. (1972). Concepts and Society. L.: Routledge; Kegan Paul.
62. Keizer P. (2007). The Concept of Institution in Economics and Sociology, a Methodological Exposition // Working Papers. No 07-25 / Tjalling C. Koopmans Research Institute, Utrecht School of Economics, Utrecht University.
63. Langlois R. N. (1989). What is Wrong with the Old Institutional Economics (and What is still Wrong with the New?) // Review of Political Economy. Vol. 1, No 3. P. 270—298.
64. Lawson T. (2006). The Nature of Heterodox Economics // Cambridge Journal of Economics. Vol. 30, No 4. P. 483—505.
65. Lukes S. (1973). Individualism. Oxford: Blackwell.
66. Mäki U. (1993). Economics with Institutions. Agenda for a Methodological Enquiry // Rationality, Institutions, and Economic Methodology / Mäki U., Gustafsson B., Knudsen C. (eds.). L.: Routledge.
67. McCormick K. R. (2006). Veblen in Plain English. A Complete Introduction to Thorstein Veblen’s Economics. Youngstown, NY: Cambria Press.
68. Mill J. S. (1961). Uilitarianism // Essential Works of John Stuart Mill / Lerner M. (ed.). N. Y.: Bantam Books.
69. North D. C. (1993). Five Propositions about Institutional Change // Economics Working Paper Archive EconWPA. Economic History. No 9309001.
70. O’Hara P. A. (2000). Marx, Veblen and Contemporary Institutional Political Economy: Principles and Unstable Dynamics of Capitalism. Cheltenham, UK; Northampton, MA: Edward Elgar.
71. Polanyi K. (1957). The Economy as Instituted Process // The Sociology of Economic Life / M. Granovetter, R. Swedberg (eds.). Boulder, CO: Westview Press.
72. Rutherford M. (1989). What is Wrong with the New Institutional Economics (and What is Still Wrong with the Old)? // Review of Political Economy. Vol. 1, No 3. P. 299—318.
73. Rutherford M. (1994). Institutions in Economics. Cambridge: Cambridge University Press.
74. Sandstrom G. (2012). Instead of Capitalism vs. Socialism: a Proportion-seeking Review of Two Contemporary Approaches in China and Russia // Montenegrin Journal of Economics. Vol. 8, No 4. P. 43—60.
75. Schmid A. A. (1987). Property, Power, and Public Choice. N. Y.: Praeger Publishers.
76. Seckler D. (1981). Individualism and Institutionalism Revisited. A Response to Professor Bush // American Journal of Economics and Sociology. Vol. 40, No 4. P. 415—425.
77. Toboso F. (1995). Explaining the Process of Change Taking Place in Legal Rules and Social Norms: the Cases of Institutional Economics and New Institutional Economics // European Journal of Law and Economics. Vol. 2, No 1. P. 63—84.
78. Toboso F. (2001). Institutional Individualism and Institutional Change: The Search for a Middle Way Mode of Explanation // Cambridge Journal of Economics. Vol. 25, No 6. P. 765—783.
79. Toboso F. (2008). On Institutional Individualism as a Middle Way Mode of Explanation for Approaching Organizational Issues. Ch. 10 // Alternative Institutional Structures: Evolution and Impact / Mercuro N. (ed.). L.: Routledge.
80. Udehn L. (2001). Methodological Individualism: Background, History and Meaning. L.: Routledge.
81. Udehn L. (2002). The Changing Face of Methodological Individualism // Annual Review of Sociology. Vol. 28. P. 479—507.
82. Veblen T. (1990). The Place of Science in Modern Civilization. New Brunswick; L.: Transaction Publishers.
83. Watkins J. M. (1952). Ideal Types and Historical Explanation // British Journal for the Philosophy of Science. Vol. 3, No 9. P. 22—34.
84. Wilber Ch. K., Harrison R. S. (1978). The Methodological Bases of Institutional Economics. Pattern Model, Storytelling, and Holism // Journal of Economic Issues. Vol. 12, No 1. P. 61—89.
85. Williamson O. (2000). The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead // Journal of Economic Literature. Vol. 38, No 3. P. 595—613.
86. Woodford M. (2009). Convergence in Macroeconomics: Elements of the New Synthesis // American Economic Journal: Macroeconomics. Vol. 1, No 1. P. 267—279.
87. Young D. (2002). The Meaning and Role of Power in Economic Theories // A Modern Reader in Institutional and Evolutionary Economics: Key Concepts / Hodgson G. M. (ed.). Cheltenham: Edward Elgar.
Индивидуализм в романе Чарльза Диккенса «Оливер Твист»
Оливер Твист – самая плохо развитая эмоционально личность в романе, особенно на фоне других, очень ярких персонажей произведения. Почему так? Когда читатель погружается в энергичный мир, созданный Чарльзом Диккенсом, он понимает…
В романе «Оливер Твист» Чарльз Диккенс рисует яркую картину жизни бедных детей в условиях бюрократической системы и жизнь преступников, которых в то время в бедных районах Лондона было огромное количество. Чарльзу Диккенсу удалось описать все это, используя сарказм, благодаря которому он смог создать интересных и живых героев, представляющих все слои английского общества того периода. Герои Диккенса с развитием истории растут и развиваются. На них влияют те ситуации, которые с ними происходят. Их неудачи или победы формируют их характер. Однако интересно то, что данные качества не характерны для главного героя. Со времени, когда он появился в работном доме мистера Бамбла и до его усыновления любящей семьей в конце, ничего не меняется в его восприятии действительности, привычке широко открытыми глазами смотреть на мир и безоговорочно доверять окружающим. Это приводит к тому, что каждый, кто встречается на пути Оливеру, пытается воспользоваться его доверчивостью.
В течение тех десяти лет, которые Оливер описывается в истории, он остается неиспорченным ребенком, несмотря на то, что ему мало что приходилось видеть в жизни, кроме презрения, жестокости и безразличия. Оливер попадает в ситуации, после которых большинство людей становятся сильнее морально, он переживает бедность, голод, жестокость, попадает в криминальную среду. Но Оливер не становится жестче. Читатель ожидает, что промелькнет хоть искра злости в характере Оливера, однако у него просто не существует темной стороны. Диккенс очень коротко и неясно описывает причины такого характера Оливера: «Не следует ожидать, что эта система фермерства породит какой-то необычный и богатый урожай. Однако природа или наследственность зародили в душе Оливера Твиста сильный дух».
Оливер Твист – самая плохо развитая эмоционально личность в романе, особенно на фоне других, очень ярких персонажей произведения. Почему так? Когда читатель погружается в энергичный мир, созданный Чарльзом Диккенсом, он понимает, что это было сделано намеренно. Для того чтобы при наличии такого большого количества героев и событий сосредоточить внимание читателя. К тому же Оливер Твист служит контрастом тому миру доведенного до бедности Лондона, который Диккенс описал в романе. Это подтверждают слова самого Диккенса: «Я признаю, что мне еще придется уяснить, что даже самое чистое и светлое добро не затмевает ужасное зло».
Индивидуализм в литературе Пример бесплатного эссе
Индивидуализм — одна из самых чудесных литературных тем из-за его вклада в отстаивание человеческого достоинства. Индивидуализм — это моральная позиция и философская концепция, которая делает упор на моральную ценность и высшую и внутреннюю ценность человека (Lukes 51). Литература оказалась выходом для собственного определения художника индивидуализма. В связи с тем, что такая философская концепция связана со многими аспектами жизни, включая общество, культуру и искусство, авторы посвятили достаточно времени творческому использованию индивидуализма, демонстрируя при этом социальное сознание и образ жизни.
Не теряйте время
Найдите проверенного писателя, который поможет вам с индивидуализмом в литературе
Нанять проверенного писателя$ 35,80 за 2-страничный доклад
Среди авторов, исследующих концепцию индивидуализма, — Айн Рэнд, Шарлотта Гилман и Маргарет Этвуд. Персонажи литературных произведений таких авторов отражают то, как стремление к индивидуализму может быть нарушено и остановлено возникновением любви. Книга-антиутопия Рэнда под названием «Гимн» исследует бурный период, в который человечество вынуждено жить с резкими неудачами иррациональности и коллективизма, а также с провалами социалистического воспитания и экономики.
В Anthem юноша по имени Equality 7-2521 обнаруживает себя в скрытом туннеле, изолируя себя от антииндивидуалистического общества и понимая, насколько утешение и одиночество ему подходят. Но его поискам индивидуализма мешает Золотая, красивая крестьянская девушка, которую он считает ценным элементом в своих глазах (Rand 19). В романе Гилмана под названием «Херланд» трое отважных друзей отправляются в полностью женскую страну под названием Херланд и ее женщин, лишенных социальных реалий современного мира и вклада мужественности в их материнское благополучие (Gilman 95).
Роман Этвуд «Рассказ служанки» знакомит читателей с поиском индивидуализма в пуританском обществе, основанном на руинах войны. Этвуд исследует, как любовь может изменить определение человеческого достоинства и повлиять на него в «Республике Галаад», которая препятствует стремлению к индивидуализму и узаконивает рабство (Этвуд 8). Индивидуализм в Herland Herland — это роман, в котором женщины в изолированной стране очаровываются красотой и таинственностью реального мира, где есть чувство соответствия и признания женственности и мужественности.
Один из персонажей книги, Моадин, подтверждает такое очарование социальных условий реального мира, заявляя, насколько прекрасной и в высшей степени красивой должна быть человеческая цивилизация благодаря бесчисленному вкладу науки и технологий (Gilman 96). Ясно видно, что Моадин, будучи одной из пожилых женщин, учит троих мужчин образу жизни Херланда, попала в загадку утопического общества современного мира. Любопытство Моадина к цивилизованным образам жизни мужчин, которых лишают женщин в Херланде, становится для них возможностью попасть на таинственную родину трех мужчин.
Моадин отвечает за охрану одного из трех пленников-мужчин, Терри, классического мужского шовиниста, который пытается очаровать Моадина своими знаниями и контролем над женским разумом (Гилман 37). Терри — портрет индивидуалистического типа мужчины, который признает только силу мужчин и воспринимает женщин как второстепенных существ. Терри глубоко возмущен женщинами в Херланде, которые могут существовать без помощи мужчин, и осмеливается называть их бесполыми, эпицентрами и неразвитыми кастратами (Gilman 157).
Но горечь Терри и его негативное отношение к женщинам отбрасываются, когда он осознает, что безумно любит Алиму (Gilman 157). Алима — одна из девушек Херланда, олицетворяющая взгляды и нонконформистские традиции страны. Она высокая, длинноногая, крепкая, сильная и подвижная (Гилман 18). Личность и воспитание Алимы выражают женское превосходство над мужчинами, а ее индивидуалистический характер глубоко коренится в ее уверенности в себе и убеждении, что женщины никогда не должны соглашаться на неравные отношения с противоположным полом.
Глаза Алимы полны великолепия и отражают ее широкое, бесстрашное и нежелание к боли и проигрышам, что свидетельствует о ее интересе как о намеренном мужчине, играющем в поле, чем о женщине, соблазненной украшениями и нежностью романтики (Гилман 19). Зная, что женщины любят подчиняться, Терри убежден, что огорчит Алиму, используя чистую грубую силу, гордость и страсть своей сильной мужской стороны (Gilman 146). Алима в конце концов влюбляется в Терри и выходит за него замуж.Их любовь подтверждает несостоятельность индивидуализма, поскольку они оба пытаются жить в утопическом обществе как муж и жена.
Еще один персонаж истории, отражающий несостоятельность индивидуализма, — Джефф, один из трех исследователей, которые узнали о Херланде. Джефф — полная противоположность Терри, и ему бросают вызов независимые и спортивные девушки изолированной страны. Индивидуалистическое отношение Джеффа проявляется в его причастности к почти естественным преимуществам Херланда и его людей (Gilman 137).Джеффа смущает образ жизни Херланда, и он заявляет о своей личной любви к земле (Gilman 138).
До открытия земли было известно, что Джефф настолько поглощен реальностями Земли, но придерживается священнического и ангельского подхода к мужественности и женственности. Но его индивидуалистический взгляд на современный мир изменился после открытия Херланда, которое заставило его понять, что есть мир лучше, чем настоящий. Его глубокая признательность к культуре Херланда очевидна в том, как он обращается с женщинами, и Джефф имеет утонченное представление о женщинах в Херланде и глубокие мысли об идеализированной женственности.
Джефф сильно влюблен в Селис, наполняет ее таинственным видом романтики и продолжает настаивать на том, чтобы он позаботился о ней, а не делал типичные вещи, относясь к ней как к своей равной лучшей половине. Джефф поклоняется Селис и идеалам, которые она представляет (Gilman 137). Мягкое отношение и уязвимость Селис заставляют Джеффа дважды подумать о том, чтобы вернуться в реальный мир вместе с Селис (Gilman 149). Ван, один из исследователей, а также рассказчик в романе, думает о Херланде критически и философски.
Ван всегда занимал золотую середину, размышляя о герландской культуре, используя науку, и спорил о физиологических ограничениях секса (Gilman 11). Поскольку девочки из Херланда думают, что секс нужен только для продолжения рода, и Ван, и Джефф научились преодолевать трудности, связанные с сексом. Ван обычно заявлял, что открытие, что земля нацелена на дружбу, цивилизованное отношение с обеих сторон (Гилман 24). И Джефф, и Ван не хотят покидать утопическое общество другого типа, которое есть у Херланда, ради своего патриархального мира, в котором доминируют мужчины.
В этом представлении очевидно, что Ван влюбляется в совершенство герландской культуры и обычаи ее женщин. В отношении Вана видно, что его больше не интересует стремление к индивидуализму, поскольку он так увлечен красотой и совершенством Херланда. Жена Вана, Элладор, не менее умна, чем Ван, и руководствуется своим любопытством к утопическому современному обществу своего мужа, а также своей любовью к Вану. Элладор объясняет вещи мило и мило и думает о Ване как о мудром человеке без глупостей (Gilman 117).
Такое представление о нем заставляет Вана неохотно воссоединяться с реальностями своего мира и представлять Элладору жестокость и глупости Земли (Gilman 117). Индивидуализм в Anthem История Anthem вращается вокруг его главного героя, юноши по имени Equality 7-2521. Равенство 7-2521 находится в неустановленной дате, когда человечество вынуждено отрицать все концепции индивидуальности и соответствовать производственным и капиталистическим ценностям, которые приносит технический прогресс.
В романе ясно видно, что автор пытается устранить философскую идею индивидуализма, устраняя местоимение «я» и заменяя его на «мы» и «наш» и другие местоимения множественного числа, которые все указывают на конформность.Равенство 7-2521, главный герой сюжета, борется между индивидуализмом и коллективизмом. В начале рассказа уже сказано, что главный герой боится остаться один и боится последствий того, что у него одна голова и одно тело (Рэнд 1). Главный герой попадает в мир, который рассматривает индивидуализм как незаконный акт, великое преступление и источник всего зла (Rand 1).
Equality 7-2521 — дворник, который верит в концепцию индивидуализма и не одобряет коллективистское общество, созданное Советом.Его можно охарактеризовать как тщеславного и эгоцентричного, храброго и умного. Его любопытство и стремление к свободе — вот что делает его бесстрашным перед обществом безмозглых дронов, которые его окружают. Главный герой — это символ превосходства единственного интеллектуального существа над однородностью всего общества, которое не имеет смелости думать самостоятельно и неотличимо друг от друга.
Чтобы спрятаться от зла Дворца Великого Совета, Equality 7-2521 прячется в подземном туннеле, где он один, и исполняет свое стремление к одиночеству (Rand 23).Он описывает чувство, скрывающееся в заброшенном туннеле, и пишет о своих чувствах к миру, которые пошли не так, как об освобождении. По словам главного героя, воздух в туннеле чистый и без запаха, что дает ему достаточно сил, чтобы выжить под землей (Рэнд 23).
Одно из настроений Equality 7-2521 состоит в том, что нет солидарности между братством, потому что почти у каждого, похоже, есть свои личные проблемы, идеалы и стремления. Братство 2-5503 описывается главным героем как тихий мальчик с нежными глазами, который внезапно плачет без причины и чье тело дрожит по ночам от необъяснимых рыданий (Rand 24).Солидарность 9-6347 также принадлежит к братству и описывается Equality 7-2521 как умный и яркий юноша, иногда бесстрашный и кричащий во сне по ночам (Rand 24).
Эти наблюдения наводят на мысль, что главный герой может отличаться от окружающих, и понимает, насколько тревожно и неприятно быть другим. Такое осознание заставляет его сожалеть о своих разногласиях и попытках привести себя в соответствие, чему Совет постоянно способствует. Дружба Equality 7-2521 и International 4-8818 считается злом, поскольку они оба существуют во времена великого нарушения предпочтений, которое объявляет любовь к кому-то лучше других в братстве незаконной, поскольку написано, что они должен любить всех мужчин и подружиться со всеми из них (Рэнд 11).
Дружба Equality 7-2521 и International 4-8818 наводит на мысль о нерешительных попытках главного героя стереть все свои предпочтения к отдельным людям, помогать и заботиться о каждом в равной степени и быть идентичным своим собратьям. International 4-8818 считает главного героя пророком. Когда он и Equality 7-2521 узнали о туннеле, он разрывался между верностью своему другу и Совету. Он представляет человека, который тайно ищет свой смысл, но его поиски прерываются из-за страха нарушить закон Совета.
Еще один персонаж из этой истории — Нарушитель невыразимого слова. Главный герой описывает Преступника как молодого и высокого человека с золотыми волосами и голубыми глазами (Рэнд 26). Нарушитель не испытывает боли, поскольку он сожжен заживо, а его язык вырван, так что он больше не может говорить об истинной сущности и значении индивидуализма (Рэнд 26). Говорят, что Преступник достойно умер, поскольку в его глазах не было боли и в теле не было намека на агонию (Rand 26).
Говорят, что были только радость и гордость, гордость более святая, чем то, что достойно человеческой гордости (Rand 26). Судьба Преступника отражает негодование Совета по поводу слова «индивидуализм», которое Преступник стремился провозгласить. Коллектив 0-0009 — лидер Всемирного совета ученых. Равенство 7-2521 считает Коллектив старейшим, но самым мудрым из Совета, который ненавидит и боится его (Рэнд 42). Коллектив 0-0009 ставит под сомнение превосходство и интеллект главного героя и обвиняет его в нарушении законов Совета и хвастовстве (Рэнд 44).
Индивидуалистический взгляд на Коллектив 0-0009 проявляется в его оценке Совета как единственного мозга общества (Рэнд 44). Коллективный 0-0009 символизирует мыслительную силу, стоящую за пороками коллективизма в обществе. Хотя ему не нравится Equality 7-2521, Коллектив 0-0009 бесформенен, труслив и глубоко полагается на Совет. Когда Equality 7-2521 встречает Золотого, его поиск индивидуализма разрушается, потому что он вступает в новую фазу своей жизни, в которой есть нечто большее, чем борьба с коллективизмом.
Он отваживается на совершенство и утопию, намекающую на любовь, поскольку он больше не желает отрицать, что предпочитает одних из своих товарищей другим. Golden One — это имя, данное Liberty 5-3000 (Rand 19). Поскольку главный герой все время думает о ней и его желание любви непреодолимо, он отдает себя незаконному поступку. Поступая таким образом, он больше не представляет читателям индивидуалистическое Равенство 7-2521, но показывает им, что его уносит утопия, которую несет любовь.
Более того, Золотой дает главному герою привилегию иметь значимые отношения с другим человеком. Согласно Equality 7-2521, он внезапно чувствует, что Земля хороша и что жить на ней не обременительно (Rand 19). С самого начала очевидно, что Золотой имеет тенденцию быть высокомерным и гордым и не признает всех составляющих общества, кроме Равенства 7-2521. Золотой сильно обожает главного героя, потому что он самый храбрый и самый острый среди братства.
Такие качества главного героя делают ее подчиненной ему почти мгновенно, поскольку она начинает заботиться о нем уже в третий раз, когда они встречаются. Когда она следует за ним в Неизведанный Лес, она полностью становится обладательницей Равенства 7-2521 и остается таковой до конца. Индивидуализм в романе «Рассказ служанки» Этвуд исследует тему женского порабощения, разворачивающуюся в республике Галаад, тоталитарной и теократической стране, которая заменила на карте Соединенные Штаты Америки (Фостер 6).Историю рассказывает Оффред, одна из служанок в штате.
Отмечается, что служанки в стране назначают рожать детей богатым парам, у которых возникают проблемы с зачатием. Страна основана мужчиной-шовинистом, организованным теократами военным переворотом как радикальный ответ на повсеместную социальную, моральную и экологическую деградацию страны. В первой главе рассказчик кратко описывает различия между социальной обстановкой в стране до создания новой республики и настоящим временем, когда женщины рассматриваются как объекты, ценность которых зависит от их способности рожать (Этвуд 9). .
Роман представляет читателям индивидуалистический взгляд на женщин как на средство для родов. Рассказчик Оффред считает себя ходячей маткой из-за своего долга служанки, единственная обязанность которой — поддерживать сокращающееся белое население (Фостер 6). В недавно созданной стране женщины лишены своих экономических и социальных возможностей и привилегий и признаны за их роль в родах.
Жена командира, Серена Джой, терпит поражение, стыдится себя из-за своей неспособности зачать ребенка и несколько завидует Оффреду за ее репродуктивные способности (Этвуд 20).Оффред — это отчество раба, которое относится к командиру, которому она служит, например, Фреду. Оффред — главный герой в истории, который отражает неспособность обладать индивидуалистическим отношением к жизни из-за нежных отношений. После постоянных уговоров со стороны жены командира, Оффред поддается незаконному роману с Ником, чтобы спастись от неопределенности, которая ожидала впереди (Этвуд 226).
Как индивидуализм победил американскую художественную литературу ‹Литературный центр
Это эссе опубликовано в текущем выпуске The Baffler.
«Америка не на перепутье», — пишет Перри Андерсон в книге « Американская внешняя политика и ее мыслители », своем руководстве 2015 года по подъему и научному поддержанию американского империума. Андерсон бросает вызов, в частности, Фрэнсису Фукуяме, теоретику конца истории, который, по его мнению, не может принять во внимание «ошеломляющее накопление военных баз по всему миру или власть Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, не говоря уже о симбиоз с Израилем ». К Фукуяме и другим сторонникам повествований об упадке империи Андерсон не испытывает сочувствия.Интеллектуальная Америка, заключает он, «именно там, где она всегда была, возводя в квадрат круг филантропии и империи к своему собственному удовлетворению».
Читая это укрепляющее обвинение, я нахожу тревожным и смехотворным, что существует несколько дополнительных отчетов в области американской культурной, эстетической или литературной критики (помимо работы Фредрика Джеймсона, который в большей или меньшей степени немец). Представление о том, что американская литература может иметь имперский уклон — что это может быть что угодно, кроме череды слегка соповлияющих произведений «творческой силы», и что само по себе может отражать наше национальное стремление к доминированию, — упускается из виду ее критиками, оба верны. и влево.
Сегодня, если роман принят в американский канон, это как шедевр индивидуализма, который погружает материальное и социальное бытие в дух одинокого гения.
Но возможность имперской литературы не всегда упускалась из виду нашими лукавыми центристскими критиками, которые помогали культивировать ее из поколения в поколение. На протяжении ХХ века многие выдающиеся критики, такие как, скажем, Альфред Казин, высмеивали и отвергали левых социальных романистов своего времени, отдавая предпочтение культистам всеобъемлющего реализма.По мнению Казина, главным препятствием на пути к сильной национальной литературе был аморфный «натурализм», каким-то образом возрождение разнообразия XIX века, чье «отчаяние» сводилось к утомительной тревоге по поводу распада коллективного обещания. Достоинство реализма было двояким: он прославлял идиосинкразию как форму индивидуалистического освобождения от социальной жизни и что он стал «доминировать в американской художественной литературе», «[охватывая] по своему желанию каждый сектор американской жизни». Со временем создание Империума Реалистов стало ретроактивным доказательством его воображаемого превосходства.Исходя из этого, Казин соизволил похвалить «общие разговоры» таких писателей, как Шервуд Андерсон, и присвоил ему ярлык «реалист» в знак признания того, как сельский писатель «недавно освободился» от «деревенского вируса». Подстегиваемый «яростным желанием отстоять [свою] свободу», литературный реалист превращается в обратного Прометея, крадущего огонь у людей для развлечения критиков наверху, убегая из деревни с ее языком. Для Казина не имело значения, действительно ли рассматриваемый романист идет против реалистического типа — если, возможно, она чрезмерно озабочена социальными ролями или ее политика слишком сильно отклоняется влево — до тех пор, пока ее можно изменить с критической силой.В книге On Native Grounds Эдит Уортон можно считать проницательным писателем о стратифицированной космополитической жизни только «потому, что ей это надоело». А Хемингуэя превозносят за то, что он одержал победу над «обществом, которое служило лишь для того, чтобы охотиться на отдельного человека». (Вероятно, поэтому он переехал на Кубу.)
Сегодня, если роман принят в американский канон, это как шедевр индивидуализма, который погружает материальное и социальное бытие в дух одинокого гения.Если в известном романе присутствует социальный мир, наши критики поглощают его и выделяют как воображение. В начале 21 века реализм стал синонимом ограниченного американского критического консенсуса с любопытным антиобщественным романом. Критикам никогда не приходит в голову, что реализм может показаться реальным только из-за ветхости коллективных мечтаний. Критики также не беспокоятся о том, что «социальные проблемы», представленные в наших романах, редко достигают сложности кабельного телевидения. Или что роман, искренне посвященный общественной жизни (или даже социальной роли отдельного человека), может сам на этом фоне быть своеобразным.Иными словами, печально, что романы Джонатана Францена воспринимаются большинством как социально-политическая литература. Freedom — это не социальный роман уровня Уортона. Это замедленный круглосуточный новостной канал.
Казин во время кризиса помог гарантировать, что более поздние критики и романисты будут действовать под эгидой индивидуалистической ортодоксии. В качестве кода к его проекту вы можете рассмотреть философа-неопрагматика Ричарда Рорти, который, как и Казин, был настроен против радикальных родителей.Выступая за осторожного левого исследователя или, по крайней мере, за публичного интеллектуала, поддерживавшего скандинавскую социал-демократию, Рорти, тем не менее, вытащил европейских модернистов, таких как Пруст, на орбиту своего воображения и превратил их в либеральных американских иронистов. В этом смысле он стал Фукуямой, принадлежащим к американской философии литературы. Он воспевал буржуазные добродетели — неразрешимую пропасть между частным языком и общественной жизнью — как муза конца истории.
Но за пределами рядов критиков Фуко на американской литературной сцене был по крайней мере один критик литературного империализма, хотя о нем в значительной степени забыли.По иронии судьбы, Квентин Андерсон, который работал вместе с Лайонелом Триллингом в Колумбийском университете, не написал исчерпывающего текста о подъеме социального романа; вместо этого он проследил формирующие импульсы нашей литературной идеологии до таких писателей, как Эмерсон, Уитмен и Генри Джеймс. Там он обнаружил остатки того, что он называл «имперским я». Начиная с работы Эмерсона Nature — раннего Эмерсона, которого академические коллеги Андерсона в значительной степени не замечали, — он исследовал «творческую десоциализацию» американской литературы в руках радикального индивидуализма, выраженного на жаргоне воинственного, трансценденталистского «я».Нет сомнений в том, что лучшая работа Андерсона, The Imperial Self , идет вразрез с критикой того времени; даже похвалы книги, такие как Гарольд Блум (в характерно корыстном обзоре 1971 года), игнорировали его аргументы о том, что читатели должны обосновывать литературу в социальном контексте, чтобы усилить ее идиосинкразии. Несмотря на всю свою работу, Андерсон не мог избежать напряжения постсоциального мышления, которое он намеревался атаковать. В конце концов, Блум, главный эмерсоновский критик своего поколения, включил его в американскую литературную догму.« The Imperial Self , — пообещал Блум, — это еще один эмерсоновский манифест».
ЗВЕЗДНЫЙ РЕБЕНОК
Более пристальный взгляд на The Imperial Self показывает критику литературного интеллектуализма, которая выдерживает, потому что это образно, да, но также потому, что состояние романа не сильно изменилось. Так же, как Перри Андерсон заверил нас, что американская империя жива и здорова, имперское «я», на которое она опирается, все еще брыкается и кричит в современной американской фантастике.Как еще объяснить, почему наши социальные романы настолько антиобщественны? Это не для того, чтобы сетовать на всю современную художественную литературу, но чтобы утверждать, что некоторые властные авторы происходят от эмерсоновского антиэтоса.
В основе аргументации Квентина Андерсона лежит идея о том, что Эмерсон создал архетип художника «инкорпорации»; он стал «божественным чадом, которое пожирает мир, а затем, подобно богу, восстанавливает его как Слово». Он перенес задачу самоутверждения »- подвиг, достигнутый ранее в социальной жизни, -« внутрь себя.Как писал Андерсон в 1971 году, «наш основной бизнес больше не воспринимается как создание или действие, а, в конечном счете, как демонстрация силы личности по представлению мира, который она включает». Художник, переваривающий и переваривающий социальную и материальную жизнь, спрашивающий: «Каким миром мне обладать?» а не «Какую роль мне дадут?» в настоящее время является неоспоримой опорой американского литературного идолопоклонства. «Впервые со времен Аристотеля, — сетует Андерсон, — привычки, которые сопровождали веру в то, что мы социальные животные, были эффективно отвергнуты на уровне самого общества.На место «обширной вакансии, на которой было эффективное отцовское государство», Эмерсон вставил свои «психические проекции», свое имперское «я». Он пропылесосил природу и общество своим огромным ртом эго. И с тех пор, как мы связали наши мечты со звездой Emerson, наши представления о «великолепной коллективной жизни потерпели неудачу».
Imperial Self идет на все, чтобы поразить Эмерсона как источник пагубного индивидуализма. Однако в то же время мы должны подтвердить, что этот Эмерсон гениален: талант и энергия, необходимые для манипулирования его богато разнообразными нитями религиозности и амбиций, никогда больше не встречались в одной и той же смеси.Тем не менее, это вопрос литературной традиции. Вслед за Эмерсоном был Генри Джеймс, который поглотил европейскую общественную жизнь в свой «тотальный образный порядок», по-видимому, ничему не научившись, и вернул ее домой в Америку. Это Джеймс, которому Андерсон в своей более ранней книге приписывает «гипертрофированное« я »» — или, как мне нравится думать, сильно накаченное эго. Также нельзя забывать Уолта Уитмена, который превратил объединение и облагораживание социального и материального миров в праздник.Если вы думаете, что Андерсон, вычерчивая эту родословную, ведет себя жестоко, я бы указал на недавнее эссе Бена Лернера «Ненависть к поэзии», которое в своей двойственности обвиняет Уитмена в том, что он превратился в «национальную технологию». которые «побеждают язык и ценности существующего общества», которые «выражают неснижаемую индивидуальность таким образом, который может быть признан в обществе». Описание Лернером салонного трюка Уитмена — выставление индивидуализма за социальное благо — недалеко от андерсоновской критики имперского «я».
Если в аргументе Андерсона есть слепое пятно, так это в его жалобе на то, что «можно сказать, что культурная напряженность, которую высказывает Эмерсон, взяла верх над возможностью чего-то« национального »». Верным было обратное, и это должно было быть ясно для Андерсона. в конце 1960-х годов, не в последнюю очередь потому, что он должен был объяснить мутацию имперского «я». По мнению Андерсона, поглощение «социальных ролей» препятствовало бы формированию национального самосознания, требующего от социальных индивидов, которые вносят свой вклад.Если каждый станет ампутированным прозрачным глазным яблоком — если принять безумную метафору Эмерсона из Nature — национальное строительство руками уступит место избытку шугейзинга. Конечно, теперь мы знаем, что олигархическая американская империя, созданная на основе военного и рыночного господства — и дешевого распространения эмерсоновского индивидуализма во все уголки Земли — полагалась на устранение социальной жизни как дома, так и за рубежом.
Андерсон также не предсказывал, что эмерсонский солипсист, опьяненный изоляцией, самоотключающийся от общества, станет параноиком.Во всяком случае, прозрачное глазное яблоко Эмерсона теперь является веб-камерой, взломанной АНБ. А может, это телекамера. В любом случае, это технология, отданная на откуп корпоративным и правительственным технократам.
ДУХОВНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
Заимствуя технику Квентина Андерсона, мы можем использовать надежное стенографическое руководство для оценки имперского «я» в современной литературе: найти авторское представление о природе. Возьмем, к примеру, Карла Уве Кнаусгаарда, ненавидящего себя протестанта, который воплощает идею о том, что в современной художественной литературе творчество — это душа.Работа автора, опустошающая его жизнь в форме эпического акта автофиксации, будет соответственно оценена в конце дней — но культурой, а не Богом (который мертв). Честно говоря, между Эмерсоном и норвежцем есть немного места — в конце концов, он из Европы. Там, где Эмерсон наедался Nature , Кнаусгаард отрицал это нигилистически, тем более чтобы освободить место для себя. И нет никакой ошибки в позиции Кнаусгаарда в отношении природы: «Я не верю в природу», — пишет он в четвертом томе My Struggle .
В другом месте в Европе есть Китай Миевиль, чей призыв к «антиномической утопии» (в его журнале Salvage ) игнорирует формулу Эмерсона о природе как защите от социального, которая, по его словам, приводит к «экологической несправедливости» в расизм ». Но проект Миевиля по построению мира также репетирует квазиэсхатологический язык и манию «сделай сам», которая напоминает геркулесовское обещание Эмерсона, что «солнце взойдет по его воле». Может быть, именно поэтому Миевиль уверен в том, что создает полностью реализованные не-места в своей научной фантастике: если мир разрушен, просто соберите осколки и создайте из них роман.
Какие бы противоречия ни возникали в отношениях между эго и природой европейских романистов, они бледнеют по сравнению с силой объединения, процветающей Джонатаном Франзеном, единоличным авангардом имперского «я» 21-го века. Машина противоречий, достойная Эмерсона, Францен не может не пережевывать социальный и природный миры и переваривать их недиалектически. (И, как и Эмерсон, у него мучительные отношения с немецкой мыслью.)
Поскольку романисты наиболее откровенны, выступая перед выпускниками колледжей, стоит взглянуть на вступительное слово Франзена в колледже Кеньон в 2011 году, которое он позже переупаковал как «Боль не убьет тебя» в своем сборнике эссе Вдали от дома .В обращении Франзен рассказывает детям о своей борьбе за то, чтобы включить боль развода в искусство «не просто любить природу, но и любить конкретную и жизненно важную ее часть». После развода Франзен почувствовал себя отчужденным от мира:
Когда я учился в колледже и многие годы после него, мне нравился мир природы. Не понравилось, но определенно понравилось. Это может быть очень красиво, природа. И поскольку я был вдохновлен критической теорией и искал, что в этом мире было бы неправильным, и причины ненавидеть людей, которые управляли им, я, естественно, тяготел к защите окружающей среды, потому что с окружающей средой, безусловно, было много плохих вещей. .И чем больше я смотрел на то, что было не так — стремительный рост населения мира, стремительный уровень потребления ресурсов, повышение глобальной температуры, разрушение океанов, вырубка наших последних старовозрастных лесов — тем злее и больше ненавидел людей я становился .
Но потом случилось кое-что: Франзен полюбил птиц. Он начал видеть птиц своим эго-глазом. «Мало-помалу, вопреки самому себе, — пишет он, — я развил эту страсть, и хотя одна половина страсти — это навязчивая идея, другая половина — это любовь.«Как только он поглотил в себе птиц, — продолжает он, — стало, как ни странно, легче, а не труднее жить со своим гневом, отчаянием и болью». Прежде чем вы это узнаете, эмерсоновские врата открылись универсальности:
Как это происходит? Я думаю, что, во-первых, моя любовь к птицам стала порталом к важной, менее эгоистичной части меня, о существовании которой я даже не подозревал. Вместо того, чтобы продолжать двигаться вперед по своей жизни как гражданина мира, любя и не любя и отказываясь от своих обязательств на более поздний срок, я был вынужден противостоять себе, которое я должен был либо прямо принять, либо категорически отвергнуть.Вот что сделает с человеком любовь.
Францен прямо в обращении утверждает, что распределение социальных ролей, жизнь «гражданина мира» было недостаточным, чтобы побудить его к выполнению своих обязательств. И в конце эссе это обязательство зарезервировано для двух вещей: романов и журналистики. Вывод из речи Франзена состоит в том, что студенты Кеньона должны найти объект или животное в естественном мире, чтобы включить их в себя, «чтобы противостоять себе, которое я должен был либо прямо принять, либо категорически отвергнуть.«Как только эта цель будет достигнута, никакие препятствия не смогут встать на пути вашей карьеры. И никто не может критиковать вас за то, что вы требуете заклания диких кошек.
КАРКАС, КАРКАС
Это эгоистическое отношение к природе присутствует в романах Францена везде, хотя и не так, как вы могли бы ожидать. В « Purity » Францен избегает участков озеленения в стиле Толстого, которые, как вы знаете, он предпочел бы исполнить; он не хочет капитулировать перед стереотипом о СМИ.Тем не менее, он не может сдержать своего чувства, что Природа становится полной эмерсонианской универсальностью:
Теплые утренние воздушные потоки перемешивали лес вдоль дороги, создавая гобелен из света и тени, настолько мелкозернистый и хаотичный, что ни один компьютер на Земле не смог бы смоделировать его. Природа даже в самых локальных масштабах стала издевкой над информационными технологиями. Человеческий мозг, даже дополненный технологиями, был ничтожным, бесконечно малым по сравнению со вселенной.
Здесь много интеллектуального романтика, в его проникновении (и замкнутости) природы — также справедливо отметить в этом смысле, что инкорпорирующий художник обычно (вероятно, всегда) мужчина.Это завораживает, когда в следующем отрывке Францен-человек инстинктивно тянется к гамбиту полного включения:
Материя была информацией, информационной материей, и только в мозгу материя организовывалась в достаточной степени, чтобы осознавать себя; только в мозгу информация, из которой состоит мир, могла манипулировать собой. Человеческий мозг был особенным случаем. Он должен был быть благодарен за привилегию иметь такой, за то, что сыграл свою небольшую роль в познании самого себя.
Францен ничего не может с собой поделать; в тот момент, когда он осознает бесконечность природы — всего через несколько секунд после того, как он отмечает неспособность себя (или мозга) съесть ее, он отказывается. Его воля поглощать материю и информацию растворяется в эмерсоновском самопознании, поскольку он «сыграл свою небольшую роль в познании самого себя».
Как только вы заметите на работе эго Францена, вы запомните его навсегда, как редкий вид птиц в дикой природе. Он щебечет в каждом его сочинении, рассказе и романе.
В литературе современное имперское «я» наслаждается не чем иным, как воображаемым распадом природы и социальной жизни на разжевываемые кусочки материи и информации. Обладатель этого «я» — параноик-солипсист, сбитый с толку аналитик данных, служащий литературному режиму, которому не хватает критического надзора. Собственная паранойя Франзена — это единственное объяснение, которое у меня есть для превращения Purity из социального романа о строгости и ненадежности в шпионский триллер.На первых страницах мы знакомимся с Пип, разоренной долгами выпускницей (не из Кеньона), которая изо всех сил пытается найти свое место в Америке, где меньшего недостаточно. Но имя Пип должно сигнализировать читателям, что набор совпадений Диккенса решит ее заговор. Тем временем Францен, NSA рассказчиков, предполагает свою паранойю. Роман наблюдает за Андреасом Вольфом, персонажем, каким-то образом невидимым критиками как продолжение мучительного чувства непонятости Францена, персонажа, который может «знать только пустоту и бессмысленность бытия.«Что ж, Вольф — всего лишь Франзен после развода, но до того, как научился ловить птиц. Он — эмерсонский автор книги « Как быть в одиночестве» и имперское «я», которое позже задавалось вопросом, следует ли ему усыновить иракскую военную сироту.
Как только вы заметите на работе эго Францена, вы запомните его навсегда, как редкий вид птиц в дикой природе. Он щебечет в каждом его сочинении, рассказе и романе. Даже его «контрактная модель» литературного письма, которая отдает предпочтение непринужденному партнерству между читателем и писателем, основанному на доверии и асимметричном распределении товаров, выглядит как Транстихоокеанское партнерство соглашений между читателем и писателем.
КОНКУРС ЕДА
В середине Purity есть сбивающая с толку шутка, в которой безумие Францена соединяется с его потребностью создавать психическое пространство, пожирая его литературных потомков. То, что он исходит из уст профессора-инвалида, также намекает на оценку Франзеном академиков литературы (или, как сказал бы Эмерсон, американского ученого). Остроумием в данном случае является Чарльз Бленхейм, учитель письма, который рефлекторно спрашивает Пип о ее привычках к чтению:
«Хорошо.Хорошо. А вы большой поклонник Jonathan Savoir Faire ? Так много моих учеников ».
«Вы имеете в виду книгу о защите животных?»
«Тот самый. Мне сказали, что он тоже писатель.
«Я читал книгу о животных».
«Так много Джонатана . Чума литературных Джонатанс . Если вы прочитаете только New York Times Book Review , то подумаете, что это самое распространенное мужское имя в Америке. Синоним таланта, величия.Честолюбие, жизненная сила ». Он приподнял бровь, глядя на Пип. «А как насчет Zadie Smith ? Отличный материал, правда? »
Вы узнаете, что объектом розыгрыша был Джонатан Сафран Фоер, не в последнюю очередь потому, что Франзен облил его таким большим количеством красной краски. Речь идет о книге «Благополучие животных» Eating Animals , «Руководство Фёра по улучшению жизни с помощью вегетарианства».
Итак, неразумно рекомендовать Eating Animals либо как руководство по питанию (слишком извилистое), либо как произведение литературной ценности (слишком извилистое).Но как содержательная ars poetica для современного художника инкорпорации, книга может соперничать только с речью Кеньона Францена, с которой она имеет сверхъестественное сходство; это как если бы два автора смотрели друг на друга в зеркало, облизывая губы. Только образ перевернут: там, где Францен умоляет вас успокоить ваши социальные беспокойства, поедая птиц своими любящими глазами, Фоер предлагает отпущение грехов, проповедуя о том, чего нельзя есть. Что такое книга о «отказе от еды», кроме как морального руководства по включению? Вот основная тяжесть аргументов Фоера в пользу избирательного, самосовершенствующегося приема пищи, как это проявилось в его отношениях с его будущей (а позже разлученной) женой, писательницей Николь Краусс:
Звучит и ощущается отлично, но как лучше? Я мог придумать бесконечное количество способов стать лучше (я мог изучать иностранные языки, быть более терпеливым, усерднее работать), но я уже дал слишком много таких клятв, чтобы больше им доверять.Я мог бы также придумать бесконечное количество способов сделать «нас» лучше, но значимых вещей, о которых мы можем договориться и изменить в отношениях, немного. На самом деле, даже в те моменты, когда многое кажется возможным, остается очень мало.
Поедание животных — забота, которая у нас обоих была и о которой мы оба забыли, — казалась отправной точкой. Столько там пересекается, и столько всего может вытекать из этого. На той же неделе мы стали вегетарианцами.
В случае Франзена развод преодолевается решением о природе — любви к птицам.В свою очередь, моральное заявление о природе — не ешьте животных — кодифицирует брак Фоэра. Тем не менее, оба писателя озабочены использованием природы, чтобы освободить место для себя, и оба предпочитают расширять себя за счет социальных интересов. Таким образом, импульс, стоящий за неуправляемой шуткой Францена о «литературном Джонатане», — это не что иное, как нарциссизм сокращения различий. Нет никакого блумианского поворота — битвы за влияние между литературным отцом и сыном или между Джонатаном, 56 лет, и Джонатаном, 39 лет. Имперское «я» в американской художественной литературе чаще проявляется в тревоге присоединения.«Душа не двойнорожденная, а единородная», — писал Эмерсон в «Опыт». Он не допускает «совместной жизни». В какой-то момент, следуя урокам мастера, эти «я» должны будут слиться.
И действительно, новый роман Джонатана Сафрана Фоера — его самый франзенский роман. Если вы смешаете The Corrections и Freedom , на самом деле вы получите что-то вроде Here I Am (с его самоутверждающим названием). Объявленный как «самый исследовательский, острый» роман Фоэра, это главным образом семейная драма, которая, как и Франзен, затрагивает узкий круг политических проблем, присущих CNN.(Вольф Блитцер появляется несколько раз, чтобы сообщить фальшивые новости.) Действие фильма происходит в удивительно деспациализированном Вашингтоне, округ Колумбия, и он размышляет о наследии семьи Блохов, от прадеда Исаака до младшего Бенджи. Но главные герои этого фильма — застенчивые буржуа Джейкоб и Джулия, разведенная пара, и их огорченный сын Сэм, который находится на пороге своей бар-мицвы. На фоне сеанса терапии клаустрофобии Фоэра остается «разрушение Израиля» — невероятный геополитический сценарий, в котором, например, ХАМАС присоединяется к Исламскому государству.Короче шестисотстраничный рассказ: близок апокалипсис, а есть семья. Забудьте о социальном мире между ними. Неудивительно, что читатели « Чрезвычайно громко и невероятно» Близко — знакомы с его не по годам развитым Оскаром Шеллом — что Здесь я опирается на любимую тему Фоэра: мудрость детей. Подобно Эмерсону, который считал, что душа проявляет себя «как ребенок во времени, ребенок во внешности», Фоер отдает предпочтение трансцендентной силе одаренной молодежи, которая может воплотить здравый смысл, потерянный для слепых взрослых.Пока Джейкоб, его отец (тележурналист, который когда-то занимался плагиатом Гарольда Блума), пытается найти себя после распада брака, Сэм теряет знания на своей бар-мицве. Сцена тем более драматична, что она находится между демагогическими речами взрослых глав государств:
Мы читаем Гамлет в школе в этом году, и все знают весь бизнес «Быть или не быть», и мы говорили об этом как будто три последовательных урока — о выборе между жизнью и смертью, действием и размышлением, чем угодно и что бы ни.. . . И это заставило меня подумать, что, может быть, и не обязательно выбирать. «Быть или не быть. Вот в чем вопрос. Быть и не быть . Это ответ ». . . Я не просил быть мужчиной, и я не хочу быть мужчиной, и я отказываюсь быть мужчиной.
Для имперского «я», исполнителя инкорпорации, у детей есть завидное преимущество: они еще не созрели для социальной роли.
ПОСЛЕ КОНЦА ИСТОРИИ
Не вся американская художественная литература капитулирует перед имперским «я», но я бы сказал, что она широко распространена в современной литературе, особенно в растущем числе литературных романов, которые читаются как телевидение, средство, которое превращает социальную жизнь в чушь, которая принимает как должное «Зрительская публика» лучше описывается как пена из изолированных пузырей — человеческие монады, уставившиеся на экраны.На каждую статью о сексуальном насилии в Game of Thrones , например, приходится тысяча твитов о том, почему персонаж не сделал зигзагообразный зигзаг до того, как его застрелили стрелой. И на каждый телевизионный роман, например « Здесь я » Фоэра, главный герой которого красноречиво пишет для сериала HBO, есть толстый слой бесполезного книжного чата.
И имперский роман часто перенимает стиль нашего Императорского Дома, свободный косвенный дискурс, санкционированный Джеймсом Вудом, нашим главным критиком, который в духовном плане наполовину Генри Джеймс.Я не первый человек на этих страницах, который принижает озабоченность Вуда «судьбой личности», которая опирается на условно индивидуализированных персонажей — маленьких психологических единиц, кропотливо взятых у Флобера, — как на позвоночник каждого приличного романа. Что еще хуже, метод Вуда по воспитанию этих мягко различающихся индивидуалистов — формальная техника, украденная из эмерсоновского учебника. Рассказчик в маске погружается в пространство своих персонажей, воспроизводит их, крадет их язык как разведданные и скрывается — недавно освобожденный, мог бы сказать Казин.Или, если это слишком драматично, просто подумайте о свободном косвенном обращении как о трансатлантическом договоре, подписанном под прицелом Зэди Смит и изданном самым успешным британским колонизатором современной американской литературы. В любом случае свободный косвенный дискурс, Первая поправка к литературным стилям, часто кажется скорее удушающим, чем свободным. Не удивительно, что один из лучших американских романов этого года, Каран Mahajan в Ассоциация малых бомб , книга, которая усиленно избегает свободного косвенного дискурса (по признанию его автора), происходила из писателя, родившихся за пределы Соединенных Штатов, кто знает, что стиль — это просто еще одна условность.
Есть сильные современные романисты американского происхождения, которые бросают вызов этике инкорпорации. Одно из этих предложений, которое Францен назвал бы «восхитительной» иронией. (Ему нравится слово «восхитительно», что, вероятно, является самым убедительным доказательством, которое я привел в свой аргумент.) Я думаю о работе Нелл Зинк, потенциальной послушницы Франзен, которая решительно отвергла его попытку проглотить ее. оптовая. История теперь несколько известна. Зинк после приключений с птицами начала писать письма Францен (и наоборот), в которых намекали на ее остроумие и повествовательные ресурсы.После того, как ему не удалось опубликовать ее, она нашла путь к небольшой прессе и литературному признанию без его помощи. Позже, в интервью на Vice , после публикации Mislaid , ее второго романа, Зинк кое-что заметил о Франзен:
В странном, противоречивом смысле он чувствует себя авангардистом. Люди смотрят на высоких белых парней как на нашего авангарда, потому что они не обязаны быть политиками в смысле продвижения каких-то целей.Нет большой коллективной несправедливости, которую Францен пытается исправить. Вы знаете, R-I-G-H-T. Он тот, кто может сказать: «Хорошо, я в хорошем состоянии. Я могу поговорить о романе ». Любому легко принять эту позу. Это просто поза. Это артистическая позиция.
Что отличает это (то, что мы можем сокращенно назвать «жалобой Цинка») от критики, которую вы часто слышите в адрес Франзена, так это наблюдение о том, что «нет большой коллективной несправедливости, которую Францен пытается исправить». Он не обязан социальным проблемам.Он не оправдывает себя, автор — авторитет, — который опасно не связан с коллективным благом. И поэтому он всегда преследует неправильные цели (например, Twitter).
Пожалуй, больше, чем любой американский роман последних двух лет — за возможным исключением Пола Битти « Продажа » — « Mislaid » Зинка направлен против имперского «я». Роман строит свою историю почти полностью из смены ролей — здесь нет ничего священного: пол, раса и сексуальность могут измениться за считанные страницы.«Я» в Mislaid текучие, но они не поглощают других «я», природу, материю или информацию. Вместо этого они существуют в паутине напряженных отношений, близкой к спинозистской. К последней странице Mislaid Зинк заработала право направить свою жалобу на Ли, местного эмерсонского поэта, параноидального солипсиста, мстительного отца Карен и накаченного эго:
Всю свою жизнь он был вне своей глубины. Сексуальное насилие, домашнее насилие, откровенно злой общественный строй, поэты, научные круги и т. Д.. . В мире, где у людей есть фиксированные ограничения, безопаснее всего быть высокомерным ублюдком и подталкивать себя и других к победе. Но Карен внутри была крупнее, чем снаружи. У нее не было границ. Все что угодно могло повлиять на нее. Она была значима везде, как одна из тех атомных бомб, которые умещаются в чемодане. Он начал говорить, слушать и заботиться о мире, и это сделало его другим человеком.
Карен, которая открыта для того, чтобы на нее воздействовали другие, а не поглощать их, Квентин Андерсон назвал бы «переходной личностью», той, «чей мир состоит из [ее] связей с другими людьми.«И переходный человек, как выясняется,« чует нарциссизм издалека и, возможно, может зайти так далеко, чтобы сказать, что он всегда повторяется ». Или вы можете просто назвать ее социальным животным. Такие, которые нельзя есть.
индивидуализма | Определение, история, философия, примеры и факты
Индивидуализм , политическая и социальная философия, которая подчеркивает моральную ценность человека. Хотя понятие индивида может показаться простым, есть много способов понять его, как в теории, так и на практике.Сам термин индивидуализм и его эквиваленты на других языках датируются — как социализм и другие -измы — от 19 века.
Подробнее по этой теме
раса: наследственные статусы против роста индивидуализма
Наследование как основа индивидуального социального положения — это древний постулат истории человечества, распространяющийся до некоторой точки после ее зарождения…
Индивидуализм когда-то проявлял интересные национальные вариации, но с тех пор его различные значения в значительной степени слились. После потрясений Французской революции, индивидуализм уничижительно использовался во Франции для обозначения источников социального распада и анархии и возвышения индивидуальных интересов над интересами коллектива. Негативное значение этого термина использовалось французскими реакционерами, националистами, консерваторами, либералами и социалистами, несмотря на их разные взгляды на возможный и желательный социальный порядок.В Германии идеи индивидуальной уникальности ( Einzigkeit ) и самореализации — в целом романтическое понятие индивидуальности — внесли свой вклад в культ индивидуального гения, а позже были преобразованы в органическую теорию национального сообщества. Согласно этой точке зрения, государство и общество — это не искусственные конструкции, построенные на основе общественного договора, а уникальные и самодостаточные культурные целостности. В Англии индивидуализм охватывал религиозное несоответствие (т. Е. Несоответствие англиканской церкви) и экономический либерализм в его различных версиях, включая как невмешательство, так и умеренное вмешательство государства.В Соединенных Штатах индивидуализм стал частью основной американской идеологии к XIX веку, включив в себя влияние пуританства Новой Англии, джефферсонизма и философии естественных прав. Американский индивидуализм был универсалистским и идеалистическим, но приобрел более резкую окраску, поскольку в него вошли элементы социального дарвинизма (т. Е. Выживания наиболее приспособленных). «Жесткий индивидуализм», которым Герберт Гувер восхвалялся во время его президентской кампании в 1928 году, был связан с традиционными американскими ценностями, такими как личная свобода, капитализм и ограниченное правительство.Как писал Джеймс Брайс, британский посол в Соединенных Штатах (1907–1913 гг.), В книге « The American Commonwealth (1888)»: «Индивидуализм, предприимчивость и гордость за личную свободу считались американцами не только их избранными. , но [их] особенное и исключительное владение ».
Французский аристократический политический философ Алексис де Токвиль (1805–1859) описал индивидуализм в терминах своего рода умеренного эгоизма, который побуждает людей думать только о своем небольшом кругу семьи и друзей.Наблюдая за действиями американской демократической традиции Демократия в Америке (1835–40), Токвиль писал, что, побуждая «каждого гражданина изолировать себя от своих собратьев и разлучаться со своей семьей и друзьями», индивидуализм подрывает «добродетели». общественной жизни », для которой гражданская добродетель и общение были подходящим средством. Для швейцарского историка Якоба Буркхардта (1818–1897) индивидуализм означал культ частной жизни, который в сочетании с ростом самоутверждения дал «импульс наивысшему индивидуальному развитию», расцветавшему в европейском Возрождении.Французский социолог Эмиль Дюркгейм (1858–1917) выделил два типа индивидуализма: утилитарный эгоизм английского социолога и философа Герберта Спенсера (1820–1903), который, согласно Дюркгейму, свел общество к «не более чем огромному аппарату управления». производство и обмен », а также рационализм немецкого философа Иммануила Канта (1724–1804), французского философа Жан-Жака Руссо (1712–1788) и Декларацию прав человека и гражданина Французской революции (1789). , который имеет в качестве «первичной догмы» автономию разума, а в качестве первичного обряда — доктрину свободного исследования.Австрийский экономист Ф.А. Хайек (1899–1992), который отдавал предпочтение рыночным процессам и не доверял государственному вмешательству, отличал то, что он называл «ложным» от «истинного» индивидуализма. Ложный индивидуализм, который был представлен в основном французскими и другими писателями континентальной Европы, характеризуется «преувеличенной верой в силу индивидуального разума» и масштабом эффективного социального планирования и является «источником современного социализма»; напротив, истинный индивидуализм, приверженцами которого были Джон Локк (1632–1704), Бернар де Мандевиль (1670–1733), Дэвид Хьюм (1711–76), Адам Фергюсон (1723–1816), Адам Смит (1723–90), и Эдмунд Берк (1729–1797), утверждал, что «спонтанное сотрудничество свободных людей часто создает вещи, которые превосходят то, что их индивидуальные умы могут когда-либо полностью постичь», и признали, что люди должны подчиняться «анонимным и, казалось бы, иррациональным силам общества.”
Алексис де ТоквильАлексис де Токвиль, фрагмент масляной картины Т. Шассерио; в Версальском музее.
Х. Роджер-ВиоллеДругие аспекты индивидуализма относятся к серии различных вопросов о том, как понять отношения между коллективами и индивидами. Один из таких вопросов фокусируется на том, как следует объяснять факты о поведении групп, о социальных процессах и о крупномасштабных исторических событиях. Согласно методологическому индивидуализму, точке зрения, которую отстаивал британский философ австрийского происхождения Карл Поппер (1902–1994), любое объяснение такого факта в конечном итоге должно апеллировать к фактам об отдельных людях — об их убеждениях, желаниях и т.д. и действия.Тесно родственная точка зрения, иногда называемая онтологическим индивидуализмом, — это тезис о том, что социальные или исторические группы, процессы и события являются не чем иным, как совокупностями индивидов и индивидуальных действий. Методологический индивидуализм исключает объяснения, апеллирующие к социальным факторам, которые, в свою очередь, не могут быть объяснены индивидуально. Примерами могут служить классическая оценка Дюркгеймом различий в уровне самоубийств с точки зрения степени социальной интеграции и оценка распространенности протестных движений с точки зрения структуры политических возможностей.Онтологический индивидуализм контрастирует с различными способами рассмотрения институтов и коллективов как «реальных» — например, взглядом на корпорации или государства как на агентов и взглядом на бюрократические роли и правила или статусные группы как на независимые от индивидов, как ограничивающие, так и способствующие поведению индивидов. Другой вопрос, который возникает в дебатах об индивидуализме, заключается в том, как следует понимать ценности или ценности (то есть товары) в моральной и политической жизни. Некоторые теоретики, известные как атомисты, утверждают, что никакие такие блага не являются общими или общими по своей сути, утверждая вместо этого, что есть только индивидуальные блага, которые достаются отдельным людям.Согласно этой точке зрения, мораль и политика — это просто инструменты, с помощью которых каждый человек пытается обеспечить себе такие блага. Одним из примеров этой точки зрения является концепция политической власти, которая в конечном итоге проистекает из гипотетического «контракта» между людьми или оправдывается им, как в политической философии Томаса Гоббса (1588–1679). Другая — это идея, типичная для экономики и других социальных наук, на которые оказывает влияние экономика, о том, что большинство социальных институтов и взаимоотношений можно лучше всего понять, если предположить, что индивидуальное поведение мотивируется в первую очередь личным интересом.
Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчасИндивидуализм, как его понимал Токвиль, с его одобрением личных удовольствий и контролем над личным окружением и игнорированием общественного участия и общественной привязанности, долгое время сетовал и критиковал как справа, так и слева, как с религиозной, так и с светской точек зрения. Особенно заметная критика была высказана сторонниками коммунитаризма, которые склонны приравнивать индивидуализм к нарциссизму и эгоизму.Точно так же мыслители, придерживающиеся традиции «республиканской» политической мысли, согласно которой власть лучше всего контролируется разделением, обеспокоены их представлением о том, что индивидуализм лишает государство поддержки и активного участия граждан, тем самым подрывая демократические институты. Также считалось, что индивидуализм отличает современные западные общества от домодернистских и незападных обществ, таких как традиционные Индия и Китай, где, как говорят, сообщество или нация ценятся выше человека, а роль человека в политической и экономической жизни. Жизнь его сообщества во многом определяется его принадлежностью к определенному классу или касте.
Индивидуализм в эссе американской литературы
Индивидуализм в американской литературе
В конце девятнадцатого века — начале двадцатого века идею индивидуализма можно было увидеть в произведениях нескольких американских писателей. Индивидуализм можно назвать верой в первостепенную важность личности, а также в достоинства самостоятельности и личной независимости. В первой половине наших исследований работы Уолта Уитмена, Эмили Дикинсон и Роберта Фроста представляют собой некоторые из идеалов индивидуализма.
Уолт Уитмен обладал смелостью и дальновидностью, чтобы выразить свои идеи и стать первым голосом революции, сначала в европейской литературе, а затем в американской. Его индивидуалистические убеждения наиболее ярко проявляются в его стихотворении «Песня о себе». Он касается отношения травинки к человеку, окруженному другими. Хотя издалека трава может казаться одинаковой, на самом деле каждая травинка обладает своими уникальными качествами.Мне нравится, что Уитмен просит ребенка задать вопрос: «Что такое трава?» Этот конкретный символ может иметь бесконечное количество значений в зависимости от того, как его воспринимать. Хотя мы хотим, чтобы наш мир был демократичным и относился к людям равноправно, мы также должны уважать убеждения и культуру всех, кто нас окружает. Я думаю, что Уитмен использует это стихотворение, чтобы показать тот факт, что мы должны гордиться тем, что может предложить каждый отдельный человек в этом мире. Использование демократии показывает, что мы, люди, хотим, чтобы пособие могло говорить за себя и делиться своим голосом с другими.Уитмен не боялся писать о том, чем он был увлечен; скорее казалось, что ему нравилось делиться своими чувствами и эмоциями с остальным миром. Его стиль привнес новую свежесть в искусство письма. Он использовал свой прошлый опыт, чтобы вдохновить его на будущее. Опять же, в «Песне о себе» он начинает это …
ENGC12: Индивидуализм и сообщество в американской литературе
ENGC12 с профессором Нилом Доланом
Название курса: Индивидуализм и сообщество в американской литературе
Описание курса: Этот курс исследует две концепции «я»: «я», определяемое его унаследованными привязанностями и обязательствами по отношению к определенным группам (особенно семьям), местам, традициям и социальным ролям; и «я», определяемое как внутренне автономная, рациональная и уединенная сущность.В зависимости от своей первоначальной протестантской религиозной ориентации и своей политической и экономической философии американская культура официально придерживается последней, современной, «либеральной» концепции личности. Но это обязательство вызывает беспокойство в связи с глубоко унаследованной общинной принадлежностью широкого круга людей. Например, многие иммигранты стремились сохранить традиционные ценности и идентичность, несмотря на давление либеральной современности. Многие «современные» американцы оказались связанными мощными остаточными общинными узами, даже когда они стремились отстоять и прославлять эмансипированную либеральную самобытность.Этот курс исследует этот многомерный конфликт, отраженный в избранных (в основном канонических) американских литературных произведениях восемнадцатого, девятнадцатого и двадцатого веков.
Характеристики курса: Самостоятельность Ральфа Уолдо Эмерсона, Билли Бадда Германа Мелвилла, стихи Эмили Дикинсон, Церемония Лесли Мармон Силко
Узнайте больше о том, когда предлагается этот курс, просмотрев календарь UTSC!
Хотите узнать больше о роли профессора Долана в отделении или организовать встречу? Ознакомьтесь с профилем его факультета, чтобы узнать о его исследовательских и преподавательских интересах, а также о доступности рабочего времени.
CIick ЗДЕСЬ, чтобы изучить полный список наших текущих курсов.
Вы также можете проверить наличие определенных тем семинаров уровня D или курсов до 1900 года.
Индивидуализм: примеры и определение | Философские термины
I. Определение
Вы восхищаетесь людьми, которых не волнуют социальные ожидания? Людей, которые маршируют в такт своему барабанщику? Как вы думаете, имеют ли люди право делать все, что они хотят, не причиняя вреда другим, включая действия, которые могут нарушать традиционные ценности? Или вы думаете, что такие люди незрелые, эгоистичные, грешные или антиобщественные?
Индивидуализм — это вера в индивидуальность, разнообразие и свободу выше авторитета и соответствия.Индивидуализм подчеркивает обособленность, независимость и уникальность разных людей. Это часть многих политических и философских движений, таких как либерализм, анархизм, эгоизм, либертарианство, экзистенциализм и гуманизм. Естественно, он поддерживает полное равноправие для всех национальностей, полов и сексуальных ориентаций.
Некоторые индивидуалисты поддерживают эгоизм, социальное неравенство или разрушение социальных и политических институтов. Индивидуализм — это идея, которую можно применять по-разному.Возможно, самая большая разница между философиями индивидуализма заключается в том, продвигают ли они заботу только о себе или обо всех людях.
II. История индивидуализма
Хотя индивидуализм возникал здесь и там на протяжении всей истории, он впервые стал известен как философия в начале 19 -го века, после американской революции и Декларации независимости , заявления крайнего индивидуализма:
«Мы считаем самоочевидными истины о том, что все люди созданы равными, что они наделены своим Создателем определенными неотъемлемыми правами, среди которых есть Жизнь, Свобода и стремление к счастью.- Что для обеспечения этих прав среди людей создаются правительства, получающие свои справедливые полномочия с согласия управляемых ».
Это либерализм, политическая философия, почти синоним индивидуализма.
В 1793 году философ Уильям Годвин писал в поддержку анархистского индивидуализма, предвосхищая революционные анархические движения, которые разовьются позже в 19 -м веках, которые были переплетены с коммунистическими движениями и русской революцией.Коммунизм был сначала продвинут людьми, которые считали, что он может в конечном итоге привести к функциональному анархистскому обществу. А анархизм — это, прежде всего, форма индивидуализма. Парадоксально, что эти движения привели к возникновению тоталитарных государств!
Голоса индивидуализма изменились в течение 1900-х годов. Генри Дэвид Торо писал о своем уходе от общества, чтобы жить в созерцании и в гармонии с природой. Макс Штирнер заявил, что никакой государственной власти над людьми нет.А Уолт Уитмен показал себя примером индивидуализма в искусстве и личности, предвосхитив радикально индивидуалистических художников конца 20-го, -го, -го века, таких как Аллен Гинзберг, Сальвадор Дали и Sex Pistols.
В двадцатом веке индивидуализм перерос во множество различных движений в политике, философии, искусстве и общественной активности. Парадоксальным образом индивидуализм стал поддерживать как левые движения, такие как экзистенциализм и хиппи, так и правые идеологии, такие как объективизм Айн Рэнд.Основное различие, по-видимому, состоит в том, интерпретируется ли индивидуализм как «каждый за себя», как в объективизме, или как «один за всех и все за одного», как в либерализме.
III. Споры об индивидуализме
Обязательно ли индивидуализм подразумевает эгоизм ?
Так думали Айн Рэнд, Макс Штирнер и многие другие. Слово «индивидуум» подразумевает, что каждый человек является независимой единицей. И по этой причине Рэнд и Штирнер отстаивали этический эгоизм, идею о том, что то, что правильно с моральной точки зрения, лучше всего для вас самих.Рэнд утверждал, что альтруизм — зло.
Все же другие индивидуалисты — Торо, Гинзберг, Уолт Уитмен — в равной степени настаивая на индивидуальной свободе, не выступали за эгоизм и, казалось, ценили гармонию с другими живыми существами. Их защита меньшинств и забота о благе своих обществ воплощают индивидуализм, в котором индивидуальность каждого человека одинаково важна, что противоречит эгоизму.
Индивидуализм должен предполагать некоторую степень эгоизма, поскольку индивидуалист должен следовать своим собственным идеям и чувствам по поводу многих вещей, а не подчиняться, но если вы верите в равную важность всех людей, вы также должны уважать индивидуальность других.Рэнд сказал бы, что это можно сделать как эгоист, однако очевидно, что отстаивание прав других может потребовать самопожертвования, поэтому тотальный эгоизм иногда должен вступать в противоречие с неэгоистичным индивидуализмом.
IV. Цитаты об индивидуализме
Цитата № 1:
«Искусство — это индивидуализм, а индивидуализм — это тревожная и разрушающая сила. В этом его огромная ценность. Ибо он стремится нарушить однообразие шрифтов, рабство обычаев, тиранию привычек и низведение человека до уровня машины.- Оскар Уайльд, Душа человека при социализме
Здесь Оскар Уайльд, писатель, известный своим личным индивидуализмом, указывает, что индивидуализм противостоит рутине, предсказуемости, привычке, традициям и обычаям, что делает его подрывной силой. тот, который может (и должен?) нарушить социальную гармонию и разрушить старые системы и обычаи. Слишком уж Уайльд (и многие художники), это духовный вопрос — противостояние механизации человеческой жизни.
Цитата № 2:
«Кто бы ни был мужчиной, тот должен быть нонконформистом.Тому, кто собирает бессмертные пальмы, не должно препятствовать имя доброты, но он должен исследовать ее, если это доброта. Наконец-то нет ничего святого, кроме непорочности вашего собственного ума. Отпустите вас перед собой, и вы получите мировое избирательное право ». — Ральф Уолдо Эмерсон, Самостоятельность и другие очерки
Здесь Эмерсон говорит, что для того, чтобы быть «мужчиной» (я думаю, он имеет в виду истинную личность), нужно отказаться от всех предубеждений и предполагаемых ценностей и исследовать , наконец-то живя только своими истинными ценностями.И он предполагает, что если вы сможете это сделать, мир одобрит.
V. Типы индивидуализма
Политический индивидуализм относится в основном к либерализму, анархизму и эгоизму. Фактически, это в основном либерализм, поскольку анархистских наций еще нет, а этический эгоизм довольно непопулярен, с его оппозицией альтруизму.
Философский индивидуализм включает этический эгоизм, эгоистический анархизм и объективизм, которые подчеркивают индивидуальную обособленность в действиях и этике.Он также включает экзистенциализм, гуманизм и субъективизм, которые подчеркивают примат индивидуального опыта и жизни, а также свободу в выборе искусства и образа жизни.
Методологический индивидуализм — это политика анализа экономических проблем с точки зрения индивидуального выбора, важнейшая идея современной экономической науки.
Богемский индивидуализм — это термин, который мы будем использовать здесь для описания социальных движений, начиная с 1950-х годов, которые характеризовались радикальным разнообразием и свободой во всех аспектах жизни, таких как американское движение за гражданские права, поэтов-битников, хиппи и т. Д. сексуальная революция, панк-движение и многие другие.
VI. Индивидуализм против коллективизма
Возможно, вы видели, как тысячи китайских барабанщиков выступали в идеальном единстве перед Олимпийскими играми в Пекине? Коллективизм означает приоритет групп над отдельными людьми и всегда доминировал в Восточной Азии; материковый Китай и Северная Корея, вероятно, являются сегодня наиболее коллективистскими обществами. Коллективизм не обязательно связан с коммунизмом или тоталитаризмом, однако их ассоциация естественна, поскольку коллективисты не считают демократию или индивидуальные свободы важными по сравнению с успехом государства.
Вы можете быть удивлены, если я скажу вам, что большинство китайцев не хотят демократии (да, я жил там много лет и говорю по-китайски). Их больше беспокоит экономический успех материкового Китая в целом, который был достигнут их тоталитарным правительством быстрее, чем это могло бы быть при демократии. Верно, что многие формы индивидуальности в Китае подавляются социально или юридически, такие как свобода искусства, слова и информации, сексуальная свобода, а также из-за социального давления свобода личного стиля и средств к существованию.Это строго конформистское общество.
Но современный Китай вытащил миллиарды из бедности и невежества и за короткое время стал крупной мировой державой. Китайцы склонны считать индивидуализм привлекательным, но незрелым. Большинство из них хотят быть индивидуалистическими по стилю, но не политически, поскольку они ценят свою принадлежность к китайской цивилизации выше индивидуальности.
Другие азиатские общества, такие как Япония и Индия, хотя и более коллективистские, чем Запад, стали все более индивидуалистичными в своем воздействии на западную культуру, предполагая, что индивидуализм — это волна будущего на некоторое время.С другой стороны, весьма успешные социалистические демократии Северной Европы, такие как Швеция, воплощают в себе больше коллективистских ценностей, чем Америка, с системами, направленными на сокращение разницы в доходах между гражданами, и общим социальным этосом, заключающимся в том, чтобы не выделяться и не быть эгоцентричным. . Общества могут попасть во многие места в спектре между тотальным индивидуализмом и тотальным коллективизмом.
VII. Индивидуализм в поп-культуре
Пример № 1: Кавер Сида Вишеса на «My Way»
В этой песне, популяризированной Фрэнком Синатрой, мелодия популярной французской песни сочетается с новыми текстами, написанными Полом Анка.Эта версия, исполненная басистом Sex Pistols и печально известным нарушителем закона Сидом Вишесом, делает ее практически самым индивидуалистическим гимном всех времен; их тексты говорят сами за себя.
Пример № 2: Они могут быть гигантами, «свистящими в темноте»
Это более философское и загадочное заявление исходит от одной из самых индивидуалистических поп-групп последних тридцати лет — They Might Be Giants. Фраза «свист в темноте» относится к вызову мужества и оптимизма в сложной ситуации.В песне рассказывается о том, как другие люди всегда вкладывают идеи в наши головы, хотя они и не собираются вести себя недоброжелательно. Певец принимает совет «просто быть тем, кто вы есть», но предпочел бы «свистеть в темноте», что, кажется, подразумевает активное сопротивление тьме (опасных идей?), Возможно, посредством создания музыки? а не просто быть собой. TMBG — такие индивидуалистические авторы песен, что их часто трудно интерпретировать!
Индивидуализм в романтической литературе — 585 слов
Введение
Индивидуализм был центром дискуссий среди исследователей и литературных аналитиков.Мир в основном делится на индивидуалистов и коллективистов.
Среди стран, которые продвигают коллективистские культуры, есть Корея, Тайвань и Египет. С другой стороны, те, кто продвигает индивидуалистические культуры, включают в себя большинство западных культур, таких как Италия, Франция и Англия, среди других. Последние группы стран (западные) обычно приписывают рассуждениям индивидуализм. Они утверждают, что рассуждает индивидуум. Однако другие группы, продвигающие коллективизм, приписывают ему коллективную ответственность.
Индивидуализм означает упор на себя или отдельную личность. Очень важно отметить, что группа людей редко может рассуждать так, как требуется. Фактически, это то, что поощряло индивидуализм в западных культурах. В этой статье исследуется эссе Ральфа Уолдо о самообеспечении. Также будет предпринята попытка установить характеристики индивидуализма в эссе, а также его значение (Western Culture Global 1).
Самостоятельность Ральфа Уолдо
Эссе Уолдо о самообеспечении было написано в начале 1830-х годов и впервые опубликовано в 1841 году.Основная тема уверенности в своих силах заключалась в «доверься себе», поскольку он пытался побудить людей поверить в себя, не опасаясь неодобрения со стороны общества. Он начинает свое эссе с упора на определение «гений». Он утверждает, что умные люди обычно понимают, насколько зависть есть невежество, и исповедуют доверие к себе. Далее он говорит, что прислушиваться к призыву Бога — значит использовать свою мысль, поскольку Бог сделал каждого уникальным.
Он обсуждает общественное неодобрение и глупую последовательность как главные препятствия на пути к самообеспечению и уверенности в себе.Он считает, что упор общества на конформизм разрушает способность людей быть новаторскими и гениальными. Другой фактор, который он подчеркивает, — это самооценка, в которой он поощряет ответственность людей и право думать самостоятельно (Buell 64).
Характеристики индивидуализма
Есть несколько характеристик индивидуалистов, которые Уолдо выразил в своем эссе «Самодостаточность». К ним относится идентичность «Я», которая, по его словам, помогает человеку поверить в его уникальные дары от Бога.Он также побуждает людей думать самостоятельно и доверять своим делам, не принимая во внимание общественное неодобрение.
В этом отношении он пытается определить гениальность как характеристику индивидуализма и веры в свои мысли. Уолдо продолжает поощрять самооценку, поскольку это дает людям уверенность, ответственность и право думать самостоятельно, невзирая, в частности, на общественное неодобрение и соответствие. Другие характеристики, подчеркнутые Уолдо, включают избегание общественного неодобрения, а также глупую последовательность (Western Culture Global 1).
Значение индивидуализма
Индивидуализм, изображенный Уолдо в его эссе о самообеспечении, стремится сделать гениев и индивидуалистов, которые могут думать самостоятельно, не вовлекая влияние со стороны общества. Общества стремятся обеспечить соответствие людей схожим ценностям и действиям. Кроме того, они подчеркивают необходимость соответствия этим ценностям. По словам Уолдо, это глупая последовательность, и поэтому он побуждает людей доверять себе, поскольку они созданы уникальным образом (eNotes.com, Inc. 1)
Заключение
Эссе Ральфа Уолдо о самостоятельности было написано еще в 1930-х годах, но впервые было опубликовано в 1941 году. Он побуждает людей думать самостоятельно и доверять своим поступкам, не принимая во внимание общественное неодобрение или другие препятствия, например как глупая последовательность, которую подчеркивает общество.
Автор выступает за самостоятельность как за начальный этап развития, а не как цель. Он также заявляет, что самообеспечение не является антиобщественным.По сути, он побуждает людей верить в свои возможности и прилагать усилия для их достижения, не отвлекаясь (Richardson 99).
Процитированные работы
Buell, Lawrence. «Эмерсон». Кембридж. Массачусетс: The Belknap Press издательства Гарвардского университета. 2003: 64
eNotes.com, Inc. «Руководство для самостоятельного изучения». eNotes.com .14.07.2011.14.07.2011. https://www.enotes.com/topics/self-reliance
Ричардсон, Роберт.«Эмерсон: разум в огне». Беркли. Калифорния: Калифорнийский университет Press. 1995: 99.
Western Culture Global. «Индивидуализм». Центр знаний западной культуры. 26.01.2010. 14.07.2011. https://westerncultureglobal.org/
Это эссе об индивидуализме в романтической литературе было написано и отправлено вашим однокурсником. Вы можете использовать его в исследовательских и справочных целях, чтобы написать свою статью; однако вы должны процитировать его соответственно.Запрос на удаление
Если вы являетесь владельцем авторских прав на эту статью и больше не хотите, чтобы ваша работа публиковалась на IvyPanda.
Запросить удаление Нужен нестандартный образец Essay , написанный с нуля
профессионал специально для вас?


