Какие потребности ученые называют высшими почему: Какие потребности и учёные называют высшими? Почему?
Различия между высшими и низшими потребностямиНевнимание к проблеме ценностей, нежелание признать её научно-психологическую значимость не только ослабляет психологию как науку, не только препятствует её полному развитию, но и подталкивает человечество к гипернатурализму, к этическому релятивизму, к хаосу и нигилизму. Если же нам удастся продемонстрировать, что способность совершать выбор между высшим и низшим, между сильным и слабым заложена в самой природе организма, то разговоры об относительности ценностей и ценностного выбора, об отсутствии естественных критериев разграничения добра и зла, о том, что одна ценность ничем не лучше другой, прекратятся за отсутствием предмета обсуждения. Принцип естественного выбора уже выдвигался мною в главе 4. Базовые потребности естественным образом выстраиваются в совершенно отчётливую иерархию, в которой более сильная, более насущная потребность предшествует менее сильной и менее насущной. Перечислим их:
Некоторые последствия различения высших и низших потребностейЕсли мы согласимся с тем, что 1) высшие и низшие потребности имеют разные характеристики и 2) высшие потребности наряду с низшими представляют собой неотъемлемую часть человеческой природы (а вовсе не навязаны и не противоположны ей), — то наши взгляды на психологию и философию претерпят революционные изменения. Концепции образования, политические и религиозные теории, принятые в настоящее время в большинстве культур, базируются на прямо противоположных принципах. В целом можно сказать, что биологическая, животная, инстинктоидная природа человека понимается ныне исключительно как свод физиологических потребностей: пищевой, половой и так далее, которым противопоставляются высшие человеческие стремления и порывы, потребность в правде, в любви, в красоте. Более того, сами эти стремления нередко трактуются как антагонистические, взаимоисключающие, конфликтующие, противоборствующие друг с другом. По одну сторону баррикад встаёт культура со всеми её институтами, вооружённая разнообразнейшими средствами воздействия на человека, по другую оказывается низкая, животная природа человека.
|
Ученые: люди придумали строгих богов, когда общество стало слишком большим и сложным
- Николай Воронин
- Корреспондент по вопросам науки
Автор фото, Getty Images
Древние люди, будучи не в силах понять многие явления природы — например, молнии или наводнения, — придумывали им сверхъестественные объяснения. Так появилась вера в богов, по своей прихоти контролирующих силы природы.
Однако в последние несколько тысячелетий у богов появилась и другая, не менее важная функция: они стали судьями, которые наказывали людей за те или иные провинности и, соответственно, поддерживали в обществе некий набор этических норм.
Конечно, происходило это по мере развития общества, и ученые много десятилетий спорили о том, что же появилось раньше: вера во всевидящих и строго карающих богов или большие группы живущих совместно людей со сложной социальной структурой?
Ответ на этот вопрос, кажется, нашли социологи и антропологи Оксфордского университета, изучив верования нескольких сотен древнейших сообществ.
Они пришли к выводу, что суровые «боги-морализаторы» появлялись лишь тогда, когда людей становилось слишком много — и у них появлялась потребность в некой объединяющей их силе.
Автор фото, Getty Images
Сила эта, конечно же, была сверхъестественной, то есть могла контролировать не только природу, но и людей.
И, таким образом, помогала объединять разрозненных, не знакомых друг с другом представителей древних культур, заставляя их сотрудничать и заниматься общими делами на благо всего общества.
«Великое мщение»
Боги древнего мира — исключительно жестокие и мстительные существа, сурово наказывающие за малейшую провинность. Этим они разительно отличаются от божеств современных религий — милосердных и всепрощающих.
Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить Ветхий Завет: если верить этому священному тексту, строгий бог иудеев регулярно устраивал массовые истребления грешников — от Содома и Гоморры, когда «дождем серы и огня» были полностью уничтожены два города, до Всемирного потопа, который и вовсе пережила одна-единственная благочестивая семья.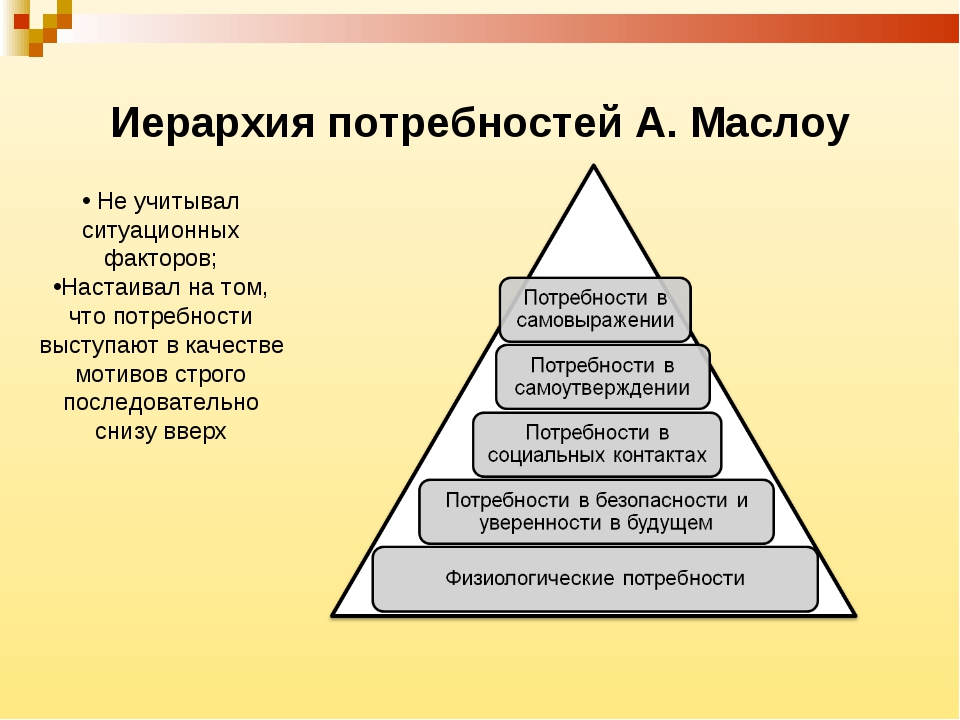
Герой культового фильма «Криминальное чтиво» перед каждым убийством зачитывает своим будущим жертвам цитату из Книги ветхозаветного пророка Иезекиля: «И совершу над ними великое мщение наказаниями яростными; и узнают, что Я Господь, когда совершу над ними Мое мщение».
Сравните ее с цитатой из Нового Завета: «Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете».
Чтобы понять, когда именно боги стали судьями и что стало этому причиной, ученые Оксфордского университета изучили 414 древнейших сообществ, живших в 30 различных регионах мира за последние 10 тысяч лет.
Каждое сообщество оценивалось по 51 признаку в смысле сложности социальной структуры (размер крупнейшего поселения, наличие писаного кодекса правил поведения и т.п.), а также по четырем признакам веры в сверхъестественные силы — в том числе верили ли люди в карающих богов, наказывающих за те или иные проступки.
Выяснилось, что первой из известных нам религией, где боги стали не только олицетворять силы природы, но и занялись морализаторством, стали верования древних египтян.
Примерно в 2800 г. до н.э., во времена Второй династии, у верховного бога Ра-Солнца появилась дочь Маат — богиня справедливости, закона и миропорядка.
Кодекс Маат (в переводе ее имя означает «правда», «порядок») лег в основу представлений древних египтян об этике — о том, как следует поступать в той или иной ситуации.
Считалось, что, поступив иначе, человек нарушает гармонию и навлекает несчастья на себя и на всех окружающих. Поэтому за соблюдением правил Маат внимательно следили в обществе.
Далее аналогичное превращение безучастных сил природы в сверхъестественный надзорный орган происходило в древних государствах по всей Евразии: в Месопотамии (ок. 2200 г. до н.э.), Анатолии (1500 г. до н.э.) и Китае (1000 г. до н.э.).
После этого, в первом тысячелетии до нашей эры, началось активное развитие религий, объединявших уже сразу несколько государств — таких как буддизм или зороастризм.
Объединявших, в том числе, и единым моральным кодексом.
Стартом к вершинам блогосферы для них стал Даггосуниверситет
Сегодня блогеры — это часть нашей культуры, самые информационно активные представители общества. В мире их два миллиарда: они ведут онлайн-дневники своей жизни, городов, стран, мира, делятся советами, снимают видео, фотографируют, путешествуют, рассуждают. Почему людям так интересно и важно публиковать свои мысли, изображения и события, так ли это легко, как кажется на первый взгляд, мы рассказываем вслед Международному дню блогера, прошедшему 14 июня.
Ученые называют разные причины вовлеченности человека в чтение блогосферы: получение информации, развлечение, отслеживание реакции публики на те или иные действия, просмотр ради социализации, ощущения себя причастным к жизни известных людей. Блогеры с помощью своих информационных площадок удовлетворяют свои коммуникативные потребности, демонстративность, просто развлекаются, занимаются творчеством, выстраивают полезные контакты и социальные связи и, конечно, если получается — зарабатывают. Авторов текстов свободных пабликов можно найти и среди студентов Дагестанского государственного университета. Самур Азимов, студент 1 курса отделения журналистики, блогер, известен своими атмосферными фотографиями и роликами.
Авторов текстов свободных пабликов можно найти и среди студентов Дагестанского государственного университета. Самур Азимов, студент 1 курса отделения журналистики, блогер, известен своими атмосферными фотографиями и роликами.
«Красоту можно найти во всем, даже в уродливом одноглазом коте или старом шкафу, на который падает закатный свет», — делится студент. У юного художника фото- и видеоработ — 60 тысяч подписчиков в социальной сети TikTok и около 7 тысяч — в Instagram.
Вещание на большую аудиторию Самур рассматривает как возможность предавать огласке какие-то насущные проблемы с надеждой, что о них услышат как можно больше людей. Блогер-вайнер Шахбан Магомедов, студент 4 курса социального факультета, рассказывает, что снимать ролики начал во время пандемии. Буквально за пару месяцев молодой человек собрал аудиторию в десять тысяч подписчиков.
«Я находился в селе, и это было единственное, чем я мог себя занять», — признается студент.
Создавать качественный контент вайнеру помог юмористический опыт в команде КВН ДГУ. Свой блог Шахбан рассматривает как возможность зарабатывать тем, что приносит ему удовольствие.
Блогер, чей Instagram-аккаунт входит в топ 10 самых популярных в Махачкале, Расул Магомедов, более известный как Цулик, — выпускник факультета информатики и информационных технологий ДГУ. На вопрос «Легко ли быть блогером?» юноша ответил, что всё индивидуально, но однозначно недосыпы и недоедания будут преследовать вас каждый день. Расул вспоминает свою команду КВН ДГУ «Добрые люди», которая дала ему большой толчок в актерском и юмористическом плане. Автор сотрудничает со многими известными людьми: Михаилом Литвиным, Эльманом, Абдурашидом Саадулаевым, Шамилем Шабановым.
«Люди, которые меня узнают, помогают мне и на дороге, и в жизни, мои зрители — самые добрые», — поделился Цулик.
Теории мотивации сотрудников
За вторую половину двадцатого века разработано много теорий мотивации личности, в которых показано, что истинные причины, заставляющие человека работать с максимальными усилиями, чрезвычайно сложны и разнообразны.
На протяжении многовековой истории развития человеческой цивилизации различные руководители с нашей сегодняшней точки зрения в большей степени неверно понимали поведение людей, но, тем не менее, приемы, которыми они пользовались для достижения своих целей в тех условиях, часто были очень эффективными. Одним из первых широко распространенных и применяемых методов, с помощью которого можно было намеренно воздействовать на людей для успешного выполнения задач, стоящих перед той или иной страной, социальной группой или организацией, является «политика кнута и пряника».
Научное подтверждение этой мотивационной концепции имело место в последней четверти XVIII века. Выдающийся английский экономист Адам Смит в своем труде «Исследование о природе и причинах богатства народов», изданном в 1775 г., рассуждая о влиянии заработной платы на производительность труда, считал, что для успешного труда нужен лишь хороший «пряник».
В 1910 году Ф. Тейлор и другие представители «школы научного управления» определили понятие «достаточной дневной выработки» и предложили оплачивать труд тех, кто производил больше продукции, пропорционально их вкладу. Это привело к значительному росту производительности труда. Тейлор считал, что все, чего хотят рабочие, — это высокая зарплата.
Тейлор и другие представители «школы научного управления» определили понятие «достаточной дневной выработки» и предложили оплачивать труд тех, кто производил больше продукции, пропорционально их вкладу. Это привело к значительному росту производительности труда. Тейлор считал, что все, чего хотят рабочие, — это высокая зарплата.
Концепция научного управления, выдвинутая Тейлором, явилась серьезным переломным этапом, благодаря которому управление стало повсеместно признаваться как самостоятельная область научных исследований. Руководители и ученые смогли убедиться, что методы и подходы, используемые в науке и технике, могут эффективно применяться для достижения целей организации. В современных теориях мотивации выделяют два направления: содержательные теории или теории удовлетворенности работой и процессуальные теории. Содержательные теории мотивации основываются на идентификации таких внутренних побуждений (потребностей), которые заставляют людей действовать так, а не иначе.
2) потребности уважения и самоуважения. Существует потребность индивида в достижении, в признании, в одобрении со стороны социума;
3) социальные потребности – это потребности в социальных связях и принадлежности к определенным социальным группам, принятии человека этими, как правило, референтными для него группами и идентификации с ними;
4) потребности в безопасности. Это уже базовые потребности, хотя в период кризиса, социальной и экономической неопределенности эти потребности становятся очень актуальными;
5) физиологические потребности – потребности, удовлетворение которых обеспечивает физическое существование человека.
Долг руководителя заключается в том, чтобы тщательно наблюдать за своими подчиненными, своевременно выяснять, какие активные потребности движут каждым из них, и принимать решения по их реализации с целью повышения эффективности работы сотрудников.
В теории Дэвида Мак-Клелланда модель мотивации делает основной упор на потребности высших уровней. Он выделяет три потребности.
1) потребность присоединения (причастности) – потребность в установлении и поддержании межличностных отношений. Мотивация на основании потребности причастности схожа с мотивацией по А. Маслоу. Люди с развитой потребностью присоединения будут привлечены такой работой, которая будет давать им возможности социального общения. Такие люди имеют широкий круг общения и стремятся его расширить. Их руководитель должен сохранять атмосферу, не ограничивающую межличностные отношения и контакты.
2) потребность власти – потребность в навыках влияния и установления контроля над поступками других людей, в воздействии на ход событий. Стремление к власти должно не только говорить о честолюбии, но и показывать умение человека успешно работать на разных уровнях управления в организациях, а стремление к признанию – его способность быть неформальным лидером, иметь свое собственное мнение и уметь убеждать окружающих в его правильности.
Стремление к власти должно не только говорить о честолюбии, но и показывать умение человека успешно работать на разных уровнях управления в организациях, а стремление к признанию – его способность быть неформальным лидером, иметь свое собственное мнение и уметь убеждать окружающих в его правильности.
Согласно теории Мак-Клелланда люди, стремящиеся к власти, должны удовлетворить эту свою потребность и могут это сделать при занятии определенных должностей в организации. Управлять такими потребностями можно, подготавливая работников к переходу по иерархии на новые должности с помощью их аттестации, направления на курсы повышения квалификации и т.д.
3) потребность достижения (успеха) – потребность принимать на себя личную ответственность и добиваться успешного выполнения заданий. При таком утверждении успех расценивается не как похвала или признание со стороны коллег, а как личные достижения в результате активной деятельности, как готовность участвовать в принятии сложных решений и нести за них персональную ответственность.
По теории Фредерика Герцберга модель мотивации, основанная на потребностях делиться на две категории: «гигиенические факторы» и «мотивация».Первая группа факторов, гигиенические факторы, вызывающие негативные эмоции и имеющие отношение к обстоятельствам, сопутствующим работе: связана с самовыражением личности, ее внутренними потребностями, а также с окружающей средой, в которой осуществляется сама работа. Вторая группа факторов мотивации, вызывающей положительные по отношению к работе эмоции и связанные с деятельностью, которую выполняют индивиды: связана с характером и сущностью самой работы. Гигиенические факторы Ф. Герцберга, соответствуют физиологическим потребностям. «Гигиеническая» внешняя среда и построенная на принципах справедливости политика менеджмента могут предотвратить недовольство и неудовлетворенность, но сами по себе не будут мотивировать работников. Для того чтобы добиться мотивации, руководитель должен обеспечить наличие не только гигиенических, но и мотивирующих факторов. Герцберг считает, что работник начинает обращать внимание на гигиенические факторы только тогда, когда сочтет их реализацию неадекватной или несправедливой. Маслоу же полагает, что если менеджер дает возможность рабочему удовлетворить одну из таких потребностей, то рабочий в ответ на это будет работать лучше. Разница в рассмотренных теориях следующая: по мнению А. Маслоу, после мотивации рабочий обязательно начинает лучше работать, по мнению Ф. Герцберга, рабочий начнет лучше работать только после того, как решит, что мотивация неадекватна.
Герцберг считает, что работник начинает обращать внимание на гигиенические факторы только тогда, когда сочтет их реализацию неадекватной или несправедливой. Маслоу же полагает, что если менеджер дает возможность рабочему удовлетворить одну из таких потребностей, то рабочий в ответ на это будет работать лучше. Разница в рассмотренных теориях следующая: по мнению А. Маслоу, после мотивации рабочий обязательно начинает лучше работать, по мнению Ф. Герцберга, рабочий начнет лучше работать только после того, как решит, что мотивация неадекватна.
Таким образом, содержательные теории мотивации базируются на исследовании потребностей и выявлении факторов, определяющих поведение людей.
Процессуальные теории мотивации основываются в первую очередь на поведении людей с учетом их восприятия и познания. К ним относятся теории ожидания В. Врума, модель Портера – Лоулера, теория «X» и «Y» Д. Мак Грегора и другие. В работах Виктора Врума теория ожиданий (разработанная в середине 60-х годах) базируется на положении о том, что наличие активной потребности не является необходимым единственным условием мотивации человека на достижение определенной цели. Согласно теории ожиданий, мотивация будет ослабевать, если люди не чувствуют прямой связи между затраченными усилиями и достигнутыми результатами (E — Р), между достигнутыми результатами и желаемым вознаграждением (Р — O), если ценность вознаграждения (валентность) невелика. Если руководитель хочет усилить мотивацию работников, он должен, кроме понимания их нужд, формировать ясные ожидания того, что трудная работа будет оплачена и что хорошая исполнительность будет вознаграждена. В соответствии с этим необходимо давать вознаграждение только за эффективную работу.
Исходя из теории ожиданий можно сделать вывод, что работник должен иметь такие потребности, которые могут быть в значительной степени удовлетворены в результате предполагаемых вознаграждений. А руководитель должен давать такие поощрения, которые могут удовлетворить ожидаемую потребность работника.
Теория мотивации Портера – Лоулера. построена на сочетании элементов теории ожиданий и теории справедливости. Суть ее в том, что введены соотношения между вознаграждением и достигнутыми результатами. Л. Портер и Э. Лоулер ввели три переменные, которые влияют на размер вознаграждения: затраченные усилия, личностные качества человека и его способности и осознание своей роли в процессе труда. Элементы теории ожидания здесь проявляются в том, что работник оценивает вознаграждение в соответствии с затраченными усилиями и верит в то, что это вознаграждение будет адекватно затраченным им усилиям. Элементы теории справедливости проявляются в том, что люди имеют собственное суждение по поводу правильности или неправильности вознаграждения по сравнению с другими сотрудниками и, соответственно, степень удовлетворения. Отсюда важный вывод о том, что именно результаты труда являются причиной удовлетворения сотрудника, а не наоборот. Согласно такой теории результативность должна неукоснительно повышаться.
Дуглас Мак Грегор проанализировал деятельность исполнителя на рабочем месте и выявил, что управляющий может контролировать следующие параметры, определяющие действия исполнителя:
• задания, которые получает подчиненный;
• качество выполнения задания;
• время получения задания;
• ожидаемое время выполнения задачи;
• средства, имеющиеся для выполнения задачи;
• коллектив, в котором работает подчиненный;
• инструкции, полученные подчиненным;
• убеждение подчиненного в посильности задачи;
• убеждение подчиненного в вознаграждении за успешную работу;
• размер вознаграждения за проведенную работу;
• уровень вовлечения подчиненного в круг проблем, связанных с работой.
Все эти факторы зависят от руководителя и, в то же время, в той или иной мере влияют на работника, определяют качество и интенсивность его труда.
Дуглас Мак Грегор пришел к выводу, что на основе этих факторов, возможно, применить два различных подхода к управлению, которые он назвал «Теория X» и «Теория Y». «Теория X» воплощает чисто авторитарный стиль управления, характеризуется существенной централизацией власти, жестким контролем по перечисленным выше факторам. «Теория Y» соответствует демократическому стилю управления и предполагает делегирование полномочий, улучшение взаимоотношений в коллективе, учета соответствующей мотивации исполнителей и их психологических потребностей, обогащение содержания работы. Обе теории имеют равное право на существование, но, в силу своей полярности, в чистом виде на практике не встречаются. Как правило, в реальной жизни имеет место комбинация различных стилей управления. Теории Д. Мак Грегора были разработаны применительно к отдельно взятому человеку. Дальнейшее совершенствование подходов к управлению было связано с тем развитием организации как системы открытого типа, а также была рассмотрена работа человека в коллективе. Это привело к концепции целостного подхода к управлению, т.е. необходимости учета всей совокупности производственных и социальных проблем.
Теории мотивации развивались эволюционно. Хотя они и расходятся по ряду вопросов, вместе с тем не являются взаимоисключающими. Различные точки зрения на мотивацию привели к следующим выводам. При анализе мотивации следует сосредоточиться на факторах, которые побуждают к действиям и усиливают их. Это потребности, мотивы и стимулы. Мотивация ориентирована на процесс и имеет отношение к выбору поведения, направлению усилий, целям и вознаграждению, на которое рассчитывают в результате выполненной работы. Недостатком всех без исключения теорий мотивации как содержательных, так и процессуальных, является, прежде всего, то, что ни одна из них не учитывает в полной мере различия в человеке, типологию людей, то, что все люди разные.
Что такое поколение Z и как оно видит свое образование
«Поколение Z» изучали специалисты Сбербанка в 2017 году, социологи из РАН в 2012-м, эксперты Высшей школы экономики и многие другие.
Социологи обычно сходятся на том, что «поколению Z» свойственна тяга к безопасности, а удовольствие, простота и интерес важнее высокого заработка. Они менее склонны к риску и бунту, находятся под влиянием родителей и ровесников, настроены изменить общество, обучаются самостоятельно, боятся «застрять» на не приносящем радости месте. Рано начинают работать, совмещая работу и учебу, занимаются самообразованием.
Представленные данные — часть исследования «Рождение российской магистратуры», проекта-победителя «Стипендиальной программы Владимира Потанина» Благотворительного Фонда Владимира Потанина и Институтом образования Высшей школы экономики. Были опрошены студенты бакалавриата и магистратуры 19 российских вузов.
Для начала посмотрим, как студенты в возрасте от 16 до 25 лет ответили на вопросы от том, что бы они предпочли больше:
- диплом или новые знания;
- окончить престижный вуз или любой вуз;
- поступить на бюджет или туда, где интересно.
На графиках, представленных ниже, четко виден тренд в ответах, на которых наблюдается поколенческий «переход» — это те самые «безопасность» и «интерес», которые смешаны в поколении Z.
Конечно, основываясь только на этих иллюстрациях, мы не даем строгого научного подтверждения типологии поколений, но именно эти результаты подтолкнули нас к «поколенческой» интерпретации данных.
У тех, кто выбирает любой вуз вне зависимости от престижности, четко виден возрастной «слом» — 21 год: и он также соответствует примерной поколенческой границе между «миллениалами» и «поколением Z» (начало 2000-х).
Такой же «горб» (даже более четко выраженный) мы видим при ответе на вопрос, важно ли обучаться на бюджете или важно то, что интересно.
РГУ им. А.Н.Косыгина
История Московского государственного университета дизайна и технологии начинается еще в конце 20-х годов прошлого столетия. В связи с индустриализацией, в стране назрела острая потребность в обеспечении легкой промышленности инженерными кадрами. И решить эту задачу можно было лишь путем создания специализированных высших учебных заведений. Более двух десятков новых вузов были созданы в 30-е годы в Москве. Постановлением Высшего совета народного хозяйства СССР было решено создать вуз профиля легкой промышленности. На базе двух факультетов — кожевенного из МХТИ им. Менделеева и кожевенного-обувного отделения технологического факультета из МИНХ им. Плеханова — был образован Политехнический институт кожевенной промышленности.
Учебный корпус было решено строить возле старого Большого Устьинского моста. В 1930 году по адресу Садовническая д. 33 возвысилось выразительное здание университета.
Первым директором был назначен Н.В. Чернов — технический руководитель Московского кожевенного завода. Николай Владимирович имел весьма солидную базу общетехнической и специальной подготовки. Одновременно он возглавлял кафедру технологии кожи и меха, которой руководил неизменно вплоть до выхода на пенсию в 1964 году.
В том же 1930 году институт переименован в Московский институт кожевенной промышленности, в 1931 году — во Всесоюзный институт кожевенной промышленности. До 1940 года при вузе действует рабфак, который на протяжении нескольких лет служит главным источником абитуриентов. Организованы курсы по ускоренной подготовке для поступления в вуз, открыты заочное отделение и несколько вечерних филиалов, в том числе в Ленинграде, Ярославле, Казани и Вятке. Организованы курсы красных директоров кожевенно-обувной и меховой промышленности, а также отдел массового рабочего технического образования, который направлял на учебные комбинаты производственных предприятий преподавателей и осуществлял методическое руководство.
Институт становится базовым центром в деле повышения квалификации инженеров и техников легкой промышленности.
С 1939 года вуз переименован в Московский технологический институт легкой промышленности.
Рост научного потенциала сопровождался созданием лабораторий и полузаводских установок по дисциплинам смешанного цикла. Перед войной институт располагал 19-ю лабораториями, 5-ю установками, 7-ю кабинетами с необходимым оборудованием. Насчитывается 26 кафедр, многие из которых возглавляли ведущие преподаватели института . Расширялся библиотечных фонд – появились фундаментальная, учебная, художественная, иностранная литература и периодические издания.
За 10 лет работы вуза было подготовлено более 2000 специалистов. Перед институтом открывались большие перспективы.
Знаменитую аббревиатуру МТИЛП знал каждый в те времена. МТИЛП — это кузница профессиональных кадров. Многие выпускники стали государственными деятелями, руководителями крупных промышленных объединений и предприятий, научно-исследовательских институтов. Это далеко не полный список деятелей, которыми по праву гордится вуз.
В 1983 году ректором вуза назначается выпускник МТИЛПа Виталий Александрович Фукин, который 22 года руководил вузом. Профессор, доктор технических наук, Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, Действительный член Международной и Российской академии наук высшей школы. За время его работы Институт постоянно развивался, накапливал интеллектуальные и научные достижения, словно по ступеням поднимался вверх во всех сферах деятельности.
С огромным потенциалом институт вступил в 90-е годы уходящего столетия. В 1992 году вузу был присвоен статус — Московская государственная академия легкой промышленности (МГАЛП). Наступили времена реформ и перемен. С переходом на рыночные отношения резко возросли требования к выпуску конкурентоспособных изделий легкой промышленности. В 1994 году руководство университета пришло к заключению о необходимости открытия нового структурного подразделения — факультета дизайна), а в 1998 г. с целью подготовки специалистов по социальным, гуманитарным и экономическим наукам открывается Институт социальной инженерии. В том же году, для расширения возможностей образовательного процесса с использованием индивидуальных форм обучения и обеспечения различных уровней подготовки специалистов создается Институт дистанционного образования.
Вуз продолжает жить и развиваться.
В 1999 году Академия переименовывается в Московский государственный университет дизайна и технологии. На пороге нового тысячелетия вуз стоял с большим багажом опыта, научных знаний, а главное — с большим желанием воплощать новые открытия в жизнь.
В те же года бурно развивался и Московский государственный текстильный университет имени Алексея Николаевича Косыгина. Университет прошел многолетнюю историю от прядильно-ткацкого училища в 1901 году до имени университета в 2000-м.
За целое столетие Вуз воспитал не одно поколение выдающихся работников текстильной промышленности, постоянно совершенствовались учебные планы и программы, развивалась научная деятельность. Но 80-е годы стали самыми значительными в истории института, велась напряженная работа по развитию научной деятельности. Было внедрено в промышленность 840 разработок, получено 657 авторских свидетельств на изобретения. Издано 90 монографий.
В 1970 году Текстильный институт им. А.Н. Косыгина возглавил Иван Антонович Мартынов. Академик Международной академии наук высшей школы, почетный доктор Либерецкого машиностроительного и текстильного института (Чехия), Лодзинского политехнического университета (Польша), Технического университета г. Хемниц (Германия), Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна, Ивановской государственной текстильной академии.
За годы его работы ректором практически построен новый современный вуз, площади учебно-лабораторных корпусов и общежитий увеличены в 2,5 раза, успешно решена задача материально-технического оснащения учебного процесса и научной деятельности. Внесен значительный вклад в развитие учебной и научной деятельности университета, укрепление его международного сотрудничества. Под его руководством началась подготовка специалистов по многим новым специальностям, более чем в 10 раз увеличен объем научных исследований, дан мощный импульс развитию в вузе современных информационных технологий.
Благодаря этому был увеличен выпуск специалистов, созданы условия для хорошей организации учебного процесса и научной деятельности, быта и отдыха студентов.
В 1987 году на базе института создано учебно-методическое объединение вузов по специальностям технологии товаров широкого потребления. Московский текстильный институт стал координатором деятельности всех вузов текстильного профиля в области повышения качества подготовки специалистов и развития научных исследований. За эту деятельность институт не раз был награжден переходящим Красным Знаменем. Институту было присвоено имя видного государственного и общественного деятеля страны Алексея Николаевича Косыгина.
К концу 80-х годов открыты 2 проблемных и 11 отраслевых научных лабораторий. Проведено техническое перевооружение института, в том числе вычислительной техникой. Постоянно увеличивались фонды учебной и научной литературы в библиотеке института.
В 1999 году академия отметила 80-летие своего существования и подвела итоги своей деятельности. Московский текстильный вуз на всех этапах занимал видное место в системе высшего образования страны, успешно решал задачи подготовки специалистов и проведения актуальных научных исследований. В вузе созданы и успешно работают сегодня известные в России и в мире научные школы по текстильной и химической технологии, текстильному машиностроению и энергетике, экономике и прикладному искусству, возглавляемые видными учеными.
В 2012 году Московский государственный текстильный университет им. Алексея Николаевича Косыгина присоединился в качестве структурного подразделения к Московскому университету дизайна и технологии. Начинается новая совместная история двух выдающихся вузов страны.
На сегодняшний день объединенный университет обладает большим багажом опыта, знаниями в текстильной и легкой промышленности, научными достижениями, а главное новыми идеями и проектами, которые обязательно воплотятся в жизнь.
МГУДТ – это бренд качественного образования и надежного будущего!
Об Академии
2010 – н.в., РАНХиГС
20 сентября 2010 г. – создано новое Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Указом Президента Российской Федерации от 20.09.2010 к Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации присоединяется Российская академия государственной службы при Президенте РФ, а также двенадцать региональных академий госслужбы.
23 сентября 2010 г. – Владимир Мау стал ректором РАНХиГС.
2010 – после объединения Академия стала крупнейшим в Европе университетом социально-экономического и гуманитарного профиля, позволяющим получить образование следующих уровней: среднее профессиональное образование, бакалавриат, магистратура, аспирантура, докторантура, программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
2010 – Международная научно-практическая конференция «Россия и мир» получила название «Гайдаровский форум». Партнерами Академии в проведении первого «Гайдаровского форума» стали Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара и Фонд Егора Гайдара.
2010 – Академией создан Российский центр исследований АТЭС для организации исследований, формирования предложений и практических рекомендаций по вопросам деятельности Российской Федерации в АТЭС и ее председательства на Форуме «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» в 2012 г.
2010 – впервые для студентов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья в Академии была открыта Международная англоязычная магистратура.
2011 – Академия стала соорганизатором реализации обновления Стратегии социально-экономического развития России до 2020 г.
2012 – первый Летний образовательный кампус Академии «Территория возможностей» прошел в Казани.
2012 – Академия и Всемирный банк стали стратегическими партнерами.
2012 – Академия выступила соорганизатором встречи международных научно-исследовательских центров «Группы двадцати» (Think Tank-20/T20) в рамках председательства России в «Группе двадцати» (G20).
2013 – РАНХиГС включена в Ассоциацию ведущих университетов России.
2013 – 100 выпускников РАНХиГС вошли в XIV рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» Ассоциации менеджеров России (2013 г.)
2013 – Академия первой в России стала членом ассоциации Network of Schools of Public Policy, Affairs and Administration (NASPAA).
2014 – Международная научно-практическая конференция в области экономики «Гайдаровский форум» РАНХиГС признана бизнес-событием 2013 г. на первой независимой премии The Moscow Times Awards.
2014 – Академия начала переобучение 9000 чиновников Крыма и Севастополя по поручению Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева.
2014 – в Академии открыто отделение Liberal Arts College, основанное на принципах междисциплинарного образования.
2014 – в Академии открыта магистерская программа Master of Global Public Policy (MGPP), которая объединила международные стандарты лучших зарубежных программ в области публичной политики. Это единственная в своем роде программа в России.
2015 – Академия получила три «звезды» по результатам аудита международного рейтингового агентства QS, что на сегодняшний день является максимумом для российских вузов.
2015 – РАНХиГС заняла 1-е место среди вузов Москвы по уровню зарплат выпускников, по данным Минобрнауки РФ.
2015 – Президентская академия получила диплом в номинации «За высокое качество подготовки управленческих кадров», по итогам четвертого рейтинга российских вузов «Эксперт РА».
2015 – несколько программ MBA РАНХиГС успешно аккредитованы НАСДОБР.
2015 – подписано соглашение о сотрудничестве между РАНХиГС и Минкультуры РФ.
2015 – студенческая команда РАНХиГС выиграла национальный чемпионат Global Management Challenge (GMC).
2015 – заключено соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с Федеральной миграционной службой России (ФМС).
2015 – подписаны два соглашения с Газпромбанком – о сотрудничестве и учреждении именных стипендий для студентов РАНХиГС.
2015 – состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между РАНХиГС и Советом Федерации. Стороны договорились о взаимодействии по вопросам совершенствования законодательства и правоприменительной практики.
2016 – открылась программа для руководителей Госкорпорации по организации воздушного движения.
2016 – РАНХиГС, АИРР и Корпорация МСП подписали соглашение о сотрудничестве.
2016 – Академия стала лидером рейтинга медиаактивности российских вузов в январе 2016 г. по данным «Медиалогии».
2016 – стартовала программа DBA «Финансы и банки» для руководителей финансовой индустрии.
2016 – Президентская академия стала одним из учредителей Российско-Французского университета.
2016 – восемь программ РАНХиГС вошли в престижный международный рэнкинг Eduniversal.
2016 – открылась совместная с Минздравом России программа обучения высшего резерва управленческих кадров.
2016 – Президентская академия возглавила Народный рейтинг бизнес-школ – 2015.
2016 – открылся Лицей Президентской академии.
2016 – РАНХиГС вошла в топ-10 Национального рейтинга университетов.
2016 – Академия и Россельхозбанк подписали соглашение о сотрудничестве.
2016 – РАНХиГС одержала победу в конкурсах на обучение служащих Росстата.
2016 – завкафедрой РАНХиГС Ольга Васильева – новый министр образования и науки РФ.
2016 – РАНХиГС вошла в топ-5 экономических вузов России по данным «Эксперт РА».
2016 – открылась уникальная программа РАНХиГС и Сбербанка «Финансы и технологии».
2016 – РАНХиГС получила статус авторизованного центра для проведения Кембриджских экзаменов.
2016 – Академия вошла в топ-5 Рейтинга востребованности вузов РФ – 2016 (данные МИА «Россия сегодня»).
2017 – РАНХиГС и Минэнерго РФ подписали соглашение о сотрудничестве
2017 – 17 программ РАНХиГС вошли в предметные рейтинги Eduniversal
2017 – Академия и Фонд «Росконгресс» подписали соглашение
2017 – В Академии создан Российско-европейский международный центр правовых исследований
2017 – Студенты РАНХиГС – первые в России пользователи Pearson Online English
2017 – РАНХиГС и Фонд развития интернет-инициатив подписали соглашение
2017 – РАНХиГС на 3 месте по количеству выпускников среди топ-менеджмента российских компаний по данным «Эксперт РА»
2017 – Академия разработала профессиональный стандарт для сферы национальных и религиозных отношений
2017 – Академия подписала соглашения с правительствами Новгородской области и Пермского края, с Ямало-Ненецким автономным округом и Свердловской областью
2017 – Бизнес-школы Академии вошли в рейтинг ведущих школ АЦ «Эксперт»
2017 – РАНХиГС сможет присуждать ученые степени по утверждению Правительства РФ
2017 – Программа Школы IT-менеджмента РАНХиГС первой в России прошла профессионально-общественную аккредитацию
2017 – РАНХиГС вошла в список экспортеров российского образования, утвержденный Правительством РФ
2017 – Бизнес-школы Академии возглавили Народный рейтинг российских школ МВА
2017 – Филиалы Академии вошли в список лучших вузов России (данные НОКО по заданию Минобрнауки РФ)
2017 – РАНХиГС и WorldSkills Russia подписали соглашение
2017 – Стартовала программа «Достояние Росатома. Базовый уровень»
2017 – Программы Академии вошли в топ-100 мирового рейтинга бизнес-образования Financial Times 2017
2017 – Академия заключила соглашение о сотрудничестве с университетом Сорбонна
2017 – Владимир Мау избран президентом Российско-Французского университета
2017 – РАНХиГС – в топ-5 вузов по количеству научных публикаций по данным РИНЦ
2017 – Две бизнес-школы РАНХиГС – в рэнкинге лучших бизнес-школ мира по версии Eduniversal
2017 – Академия вошла в список 90 лучших вузов стран БРИКС (данные британского рейтингового агентства Quacquarelli Symonds (QS)
2017 – РАНХиГС стала одним из самых востребованных вузов в сфере управления (данные МИА «Россия сегодня»)
2017 – РАНХиГС и Военная академия Генштаба подписали соглашение о сотрудничестве
2018 – IX Гайдаровский форум
2018 – Педро Аграмунту присвоено звание «Почетный доктор РАНХиГС»
2018 – Владимир Мау избран президентом Российско-Французского университета
2018 – 45 участников конкурса «Лидеры России» получили новые назначения
2018 – Объявлены победители Первой олимпиады «Я – профессионал»
2018 – Состоялся первый выпуск лицеистов РАНХиГС
2018 – В Академии завершилась программа «Достояние Росатома. Базовый уровень»
2018 – Впервые конференция TEDx прошла в Президентской академии
2018 – 11 выпускников и слушателей Президентской академии вошли в состав нового Правительства России
2018 – 15 выпускников Президентской академии избраны губернаторами в первом туре прошедших выборов
2018 – Владимир Путин встретился с победителями и финалистами проектов «Россия – страна возможностей»
2018 – Выпускникам РАНХиГС вручили дипломы Татьяна Голикова и Максим Орешкин
2018 – Разработку студента РАНХиГС отметил Владимир Путин
2018 – Франко Фраттини стал Почетным доктором РАНХиГС
2018 – В рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» вошли 55 выпускников Академии
2018 – Президентская академия получила Орден дружбы Вьетнама
2018 – Президентская академия заняла вторую строчку в рейтинге лучших вузов Forbes
2018 – Академия заняла 1 место среди вузов по социализации (данные «Интерфакс»)
2018 – Академия удерживает лидирующие позиции в рейтингах вузов (данные рейтингового агентства RAEX («Эксперт-РА»))
2018 – 20 магистерских и MBA программ РАНХиГС вошли в рейтинг Eduniversal
2018 – В РАНХиГС министр Константин Носков открыл программу по цифровизации для чиновников
2018 – Бизнес-школы РАНХиГС – лидеры Народного рейтинга – 2018
2018 – Академия — востребованный управленческий вуз (рейтинг МИА «Россия сегодня»)
2018 – РАНХиГС и Ассоциация юристов России заключили соглашение о сотрудничестве
2018 – РАНХиГС – организатор дополнительного профобразования федеральных госслужащих за рубежом
2018 – В РАНХиГС созданы Институт управления и регионального развития и Институт финансов и устойчивого развития
2019 – В Академии открыт Центр подготовки руководителей цифровой трансформации
2019 – Студенческий совет РАНХиГС признан лучшим в России
2019 – Президентская академия получила награду от портала Табитуриент «Зеленая метка 2019» (исследование «Российские вузы глазами студентов»)
2019 – Советник мэра Москвы по социальным вопросам Леонид Печатников возглавил факультет управления в медицине и здравоохранении РАНХиГС
2019 – Команда черлидеров РАНХиГС – лучшая на чемпионате России
2019 – Началась реконструкция многофункционального комплекса «Зенит»
2019 – РАНХиГС и Алтайский край подписали соглашение о сотрудничестве
2019 – РАНХиГС подготовит около 150 тыс. кадров для реализации нацпроектов
2019 – РАНХиГС готовит лучших специалистов по управлению персоналом (исследование HeadHunter)
2019 – РАНХиГС официально начала сотрудничество с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК)
2019 – РАНХиГС вошла в Альянс российских и испанских университетов
2019 – РАНХиГС и Всемирная ассоциация выпускников высших учебных заведений подписали соглашение
2019 – Филиалы Академии реализовали свыше 1.600 программ ДПО
2019 – Лицей РАНХиГС — лучшая российская школа в рейтинге по укрупненному направлению «Экономика и управление» (агентства RAEX)
2019 – Владимир Путин встретился с выпускниками программы кадрового резерва РАНХиГС
1970–2010, Институт управления народным хозяйством – Академия народного хозяйства
1970 – основан Институт управления народным хозяйством (ИУНХ). Это высшее учебное научно-методическое учреждение по повышению квалификации руководящих работников народного хозяйства в области современных методов управления, организации производства и планирования. Институт учрежден при Государственном комитете Совета Министров СССР по науке и технике.
1977 – на базе Института управления народным хозяйством, существовавшего с 1971 г., начинает работать новое учебное заведение – Академия народного хозяйства при Совете Министров СССР. Целью Академии стало совершенствование подготовки руководящих кадров для работы в министерствах, ведомствах и других органах управления народным хозяйством.
1988 – в Академии создан первый коммерческий факультет «Высшая школа международного бизнеса», он же явился первой школой бизнеса в СССР.
1989 – Академию возглавил Абел Гезевич Аганбегян – академик АН СССР, один из лидеров реформаторского крыла отечественной экономической науки.
1990 – в составе Академии организован Институт экономической политики, который возглавил Егор Гайдар.
1992 – Академия народного хозяйства при Совете Министров СССР получает новое имя. Теперь она называется Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. Академия становится не только кузницей государственных служащих и руководителей, но и учебным заведением бизнес-образования, предлагающим все виды образовательных услуг в сфере экономики, предпринимательства и права.
1992 – Академия народного хозяйства выступила инициатором разработки российских стандартов МВА.
1995 – Академии народного хозяйства присвоен новый статус – ведущего учебного, методического и научного центра в системе переподготовки и повышения квалификации государственных служащих федеральной и региональной власти. В Академии начинают преподавать профессора из США, Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов и других стран. У студентов и слушателей появляется возможность получить, наряду с российским государственным дипломом, диплом зарубежного университета.
1996 – в Академии открываются программы высшего профессионального образования.
1997 – начало осуществления Государственной программы подготовки управленческих кадров (Президентская программа). Стратегическая цель Президентской программы – повышение качества управления на отечественных предприятиях до международного уровня.
1999 – начало государственного эксперимента по введению МВА в России, инициированного Академией. С этого времени, в соответствии с приказом Министерства образования Российской Федерации №1008 от 29.11.1999 г., в России начинается подготовка слушателей по программе «Мастер делового администрирования» – МВА.
2001 – запуск первой в России программы DBA (Doctor of Business Administration (Доктор делового администрирования)) – программа экономического послевузовского образования продолжительностью от 1 года до 5 лет, предполагающая получение дополнительных знаний по прикладным экономическим дисциплинам. Данная квалификация дает право занятия управленческих должностей высшего звена.
2002 – ректором АНХ становится Владимир Александрович Мау – доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Российской Федерации.
2004 – в рамках Академии организовано Управление международного развития. Его основная задача – работа со студентами из США и Европы, прибывающими на краткосрочные программы для студентов и аспирантов. Академия принимает у себя студентов Стэнфорда, Гарварда, Принстона и других американских университетов.
2005 – Академия приступает к созданию Системы подготовки кадров, поддержки и сопровождения органов местного самоуправления. Целью создания Системы явилось обеспечение непрерывного процесса подготовки и повышения квалификации кадров органов местного самоуправления.
2007 – Академия народного хозяйства становится победителем конкурса образовательных учреждений высшего профессионального образования, внедряющих инновационные образовательные программы.
1921–2010, Институт красной профессуры – Высшая школа марксизма-ленинизма – Академия общественных наук – Российская академия управления – Российская академия государственной службы
Октябрь 1921 – открыт Институт красной профессуры (ИКП). Институт был создан постановлением Совета народных комиссаров РСФСР для подготовки преподавателей общественных наук для вузов, а также работников для научно-исследовательских учреждений, центральных партийных и государственных органов.
1938 – создана единая Высшая школа марксизма-ленинизма при ЦК ВКП(б). Здесь подготавливались руководящие партийные и советские кадры, а также руководители средств массовой информации.
2 августа 1946 – основана Академия общественных наук при ЦК ВКП(б). Это было высшее партийное учебное заведение, готовившее работников для центральных и региональных партийных учреждений, а также преподавателей вузов и научных работников.
1971 – Ученый совет принял программу развития Академии. Значительно изменилась структура Академии, расширился профиль научных специальностей, созданы новые кафедры. Новым направлением в научной работе Академии стала организация социологических исследований в различных регионах страны.
1978 – создана Академия общественных наук при ЦК КПСС на базе трех высших учебных заведений: Академии общественных наук, Высшей партийной школы и Заочной высшей партийной школы. В новой Академии стало осуществляться повышение квалификации управленческих кадров разного профиля.
1978 – начато строительство комплекса зданий Академии на проспекте Вернадского в Москве.
1983–1985 – введена в строй первая очередь нового комплекса Академии.
5 ноября 1991 – распоряжением Президента РФ Бориса Ельцина Академия общественных наук преобразована в Российскую академию управления (РАУ). Основными задачами Академии стали: послевузовская подготовка, переподготовка и повышение квалификации управленческих кадров; разработка новых технологий государственного управления; проведение научных экспертиз государственных программ и проектов; изучение и прогнозирование потребностей в управленческих кадрах; аналитическое и информационное обеспечение органов государственной власти и управления.
1994 – на Российскую академию управления возложен контроль над региональными кадровыми центрами, находившимися в ведении Главного управления по подготовке кадров для государственной службы при Правительстве РФ.
1994 – на основе Российской академии управления создана Российская академия государственной службы при Президенте РФ. Основными задачами нового учебного заведения стали: обучение, подготовка, переподготовка и повышение квалификации государственных служащих; разработка предложений по государственной кадровой политике; подготовка рекомендаций по реформированию государственной службы и ее правовому обеспечению.
1995 – принят Закон РФ «Об основах государственной службы Российской Федерации», в котором были сформулированы функции РАГС. Определено, что государственные служащие должны иметь профессиональное образование, причем оно должно соответствовать по своей специализации занимаемым должностям. Государственные служащие получили гарантию переподготовки (переквалификации) и повышения квалификации. Основным контингентом обучающихся РАГС стали госслужащие.
1 марта 2001 – РАГС получила лицензию Министерства образования, дающую право на образовательную деятельность по 11 специальностям высшего профессионального образования, по 39 научным специальностям, а также по дополнительному профессиональному образованию.
, как пандемия COVID спровоцировала атаки на ученых
Исследователь общественного здравоохранения Тара Кирк Селл (в центре) подверглась атакам в Интернете и по электронной почте после того, как рассказала о COVID-19 в СМИ. Фото: Комитет Палаты представителей США по науке, космосу и технологиям
Врач-инфекционист Крутика Куппалли в сентябре 2020 года проработала на новой работе всего неделю, когда ей позвонили домой и пригрозили убить.
Куппалли, которая только что переехала из Калифорнии в Медицинский университет Южной Каролины в Чарльстоне, в течение нескольких месяцев имела дело с злоупотреблениями в Интернете после того, как она дала громкие интервью СМИ о COVID-19 и недавно дала показания в США. комитет Конгресса о том, как провести безопасные выборы во время пандемии.Но телефонный звонок вызвал ужасную эскалацию. «Это меня очень беспокоило, нервировало и расстраивало», — говорит Куппалли, который сейчас работает во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве, Швейцария.
Она позвонила в полицию, но не узнала, что они предприняли какие-либо действия. Электронные письма с угрозами, звонки и онлайн-комментарии продолжались. Офицер полиции, который посетил Куппалли после второго звонка с угрозой смерти, посоветовал ей достать себе пистолет.
Опыт Куппалли во время пандемии не редкость.Опрос, проведенный агентством Nature более чем 300 ученых, давших интервью СМИ о COVID-19, многие из которых также комментировали пандемию в социальных сетях, выявил обширный опыт преследований или злоупотреблений; 15% заявили, что им угрожали смертью (см. «Негативные воздействия»).
Источник: Природа анализ
Некоторые громкие примеры домогательств хорошо задокументированы. Энтони Фаучи, главе Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, был назначен личный охранник после того, как ему и его семье угрожали смертью; Главный медицинский советник Великобритании Крис Уитти был схвачен и вытолкнут на улице; а немецкий вирусолог Кристиан Дростен получил посылку с флаконом с жидкостью с пометкой «положительный результат» и запиской, в которой ему предлагалось выпить ее.В одном экстраординарном случае бельгийский вирусолог Марк Ван Ранст и его семья были помещены в конспиративную квартиру, когда военный снайпер сбежал, оставив записку, в которой изложил свои намерения атаковать вирусологов.
Это крайние примеры. Но в опросе Nature более двух третей исследователей сообщили о негативном опыте в результате своих выступлений в СМИ или комментариев в социальных сетях, а 22% получили угрозы физического или сексуального насилия. Некоторые ученые заявили, что их работодатель получил жалобы на них или что их домашний адрес был раскрыт в Интернете.Шесть ученых заявили, что подверглись физическому нападению (см. Дополнительную информацию к таблицам данных обследования).
Скоординированные кампании в социальных сетях и электронные письма с угрозами или телефонные звонки ученым — не новость: такие темы, как изменение климата, вакцинация и последствия применения огнестрельного оружия, вызывали подобные атаки в прошлом. Но даже ученые, имевшие высокую репутацию до COVID-19, заявили Nature , что злоупотребления были новым и нежелательным явлением, связанным с пандемией. Многие хотели, чтобы масштабы проблемы обсуждались более открыто.«Я считаю, что национальные правительства, финансовые агентства и научные общества сделали недостаточно для публичной защиты ученых», — написал один исследователь в своем ответе на опрос.
Некоторые исследователи говорят, что они научились справляться с преследованием, принимая их как неприятный, но ожидаемый побочный эффект предоставления информации общественности. 85% респондентов заявили, что их опыт взаимодействия со СМИ всегда или в основном был положительным, даже если впоследствии они подвергались преследованиям (см. «Опыт работы со СМИ»).«Я думаю, что ученые нуждаются в обучении тому, как взаимодействовать со СМИ, а также тому, чего ожидать от троллей — это всего лишь часть цифровой коммуникации», — написал один из них.
Источник: Природа анализ
Но обзор Nature показывает, что даже несмотря на то, что исследователи пытаются не обращать внимания на злоупотребления, они уже могли оказать сдерживающее воздействие на научное общение. Те ученые, которые сообщили о более высокой частоте троллинга или личных нападений, также, скорее всего, сказали, что их опыт сильно повлиял на их готовность говорить со СМИ в будущем (см. «Эффект охлаждения?»).
Источник: Природа анализ
Это вызывает беспокойство во время глобальной пандемии, которая сопровождалась массой дезинформации и дезинформации, — говорит Фиона Фокс, исполнительный директор Британского научного медиацентра (SMC) в Лондоне — организации, которая собирает научные комментарии и организует брифинги для журналистов. . «Это большая потеря, если ученый, который взаимодействовал со средствами массовой информации, делился своим опытом, был исключен из публичных дебатов в то время, когда мы никогда не нуждались в них так сильно», — говорит она.
Отслеживание преследований
В июне австралийский SMC в Аделаиде опросил исследователей из своих списков СМИ о COVID-19 об их опыте. Центр был предупрежден об онлайн-издевательствах и кампаниях ненависти, направленных против ученых, и хотел знать, не является ли это более широкой проблемой, говорит Линдал Байфорд, директор центра по новостям и партнерским связям.
Байфорд поделился результатами с Nature . Пятьдесят исследователей ответили на неофициальный опрос SMC.Почти треть сообщили о том, что испытывают эмоциональный или психологический стресс после разговора о COVID-19; 6 человек (12%) сообщили, что получали угрозы убийством, а 6 заявили, что получали угрозы физического или сексуального насилия. «Я думаю, что любая организация, помогающая ученым общаться, сочтет это весьма тревожным», — говорит Байфорд.
Чтобы получить более широкое представление о масштабах преследований, Nature адаптировала опрос австралийского SMC и попросила научные медиа-центры в Великобритании, Канаде, Тайване, Новой Зеландии и Германии отправить его ученым с сообщением о COVID-19. списки СМИ. Nature также разослал электронные письма исследователям из Соединенных Штатов и Бразилии, которых широко цитировали в средствах массовой информации.
Результаты не являются случайной выборкой исследователей, дававших СМИ интервью по COVID-19, потому что они отражают только опыт 321 ученого, решившего ответить (преимущественно в Соединенном Королевстве, Германии и США). Но цифры показывают, что исследователи во многих странах сталкиваются со злоупотреблениями, связанными с пандемией, и зарегистрированные пропорции были выше, чем в австралийском опросе.Более четверти респондентов опроса Nature заявили, что всегда или обычно получали комментарии от троллей или подвергались личному нападению после того, как рассказали в СМИ о COVID-19. И более 40% сообщили, что испытывали эмоциональный или психологический стресс после комментариев в СМИ или социальных сетях.
Политизированная наука
В некоторой степени это преследование ученых отражает их растущий статус общественных деятелей. «Чем больше вы заметны, тем больше оскорблений вы получите», — говорит историк Хайди Турек из Университета Британской Колумбии в Ванкувере, Канада, которая изучает онлайн-злоупотребления в отношении лиц, сообщающих о здоровье, во время пандемии.Большинство департаментов общественного здравоохранения США также подвергались преследованиям, направленным против сотрудников и должностных лиц, добавляет Бет Резник, исследователь общественного здравоохранения из школы общественного здравоохранения Блумберга Джонса Хопкинса в Балтиморе, штат Мэриленд, которая провела исследование 580 департаментов в рамках исследования, которое еще не завершено. опубликовано.
И такие атаки могут иметь мало общего с наукой, а больше — с тем, кто говорит. «Если вы женщина или цветной человек из маргинализованной группы, это насилие, вероятно, будет включать злоупотребление вашими личными качествами», — говорит Творек.Например, главный санитарный врач Канады Тереза Тэм — канадка азиатского происхождения, и оскорбления, направленные против нее, включали в себя слой расизма, говорит Творек. Куппалли, женщина-учёный-цвет, говорит, что она тоже испытала это. Обидчики сказали ей, что ей «нужно вернуться туда, откуда она пришла».
Крутика Куппалли Фото: Кэтрин Ван Аэрнум
Однако исследование, проведенное австралийским SMC и Nature , не выявило четкой разницы между долей угроз насилия, получаемых мужчинами и женщинами.«Мы были удивлены, — говорит Байфорд. «Мы действительно чувствовали, что женщины будут нести большую тяжесть с точки зрения жестокого обращения, которое они получили».
Некоторые аспекты науки о COVID-19 стали настолько политизированными, что их трудно упомянуть, не вызвав шквал ругательств. Эпидемиолог Гидеон Мейеровиц-Кац из Университета Вуллонгонга в Австралии, который получил подписчиков в Твиттере благодаря подробному анализу исследовательских работ, говорит, что двумя основными триггерами являются вакцины и антипаразитарный препарат ивермектин, который спорно рекламируется как потенциальный COVID. 19 лечение без доказательств было эффективным.«Каждый раз, когда вы пишете о вакцинах — любой в мире вакцин может рассказать вам ту же историю — вы получаете расплывчатые угрозы смертью или даже иногда более конкретные угрозы смертью и бесконечную ненависть», — говорит он. Но он обнаружил, что страстная защита ивермектина удивляет. «На самом деле, я думаю, что из-за ивермектина мне угрожали смертью больше, чем когда-либо, — говорит он. «Это анонимные люди, которые пишут мне со странных аккаунтов по электронной почте:« Надеюсь, ты умрешь »или« Если бы ты был рядом со мной, я бы выстрелил в тебя »».
Гидеон Мейеровиц-Кац.Предоставлено: Даниэль Найдел
.Эндрю Хилл, фармаколог из Института трансляционной медицины Ливерпульского университета, подвергся жестокому обращению после того, как он и его коллеги опубликовали в июле метаанализ. Было высказано предположение, что ивермектин показал пользу, но Хилл и его соавторы затем решили отказаться от анализа и пересмотреть его, когда одно из крупнейших исследований, включенных в них, было отозвано из-за этических опасений по поводу его данных (A. Hill et al . Open Форум Инф. Дис. 8 , офаб394; 2021 г.). После этого Хилла осаждали изображениями повешенных людей и гробов, а нападавшие говорили, что он будет подвергнут «Нюрнбергским процессам» и что он и его дети «сгорят в аду». С тех пор он закрыл свой аккаунт в Twitter.
В Бразилии микробиолог, ставший научным коммуникатором Наталья Пастернак, также заметила рост онлайн-атак против нее, когда она рассказала о бездоказательных методах лечения COVID-19, продвигаемых бразильским правительством, включая ивермектин, противомалярийный препарат гидроксихлорохин и антибиотик азитромицин. .В 2018 году Пастернак основал Instituto Questão de Ciência — Институт вопросов науки — с целью содействия использованию научных данных при разработке политики и дискурсе. Когда случился COVID-19, Бразилия «стала первой страной в мире, которая фактически продвигала лженауку в качестве государственной политики, потому что мы продвигаем использование недоказанных лекарств от COVID-19», — говорит Пастернак.
Она появилась на крупных телевизионных станциях и продюсировала собственное шоу на YouTube под названием «Дневник чумы».Комментаторы критиковали ее голос и внешность или утверждали, что она не настоящий ученый. Но, по словам Пастернака, нападения редко ставили под сомнение то, что она говорила.
Некоторые злоумышленники также пытались использовать закон, чтобы заставить замолчать свои цели. Группа сторонников президента Бразилии Жаира Болсонару пыталась подать в суд на Пастернака за клевету на него, когда она сравнила Болсонару с чумой в своем шоу на YouTube; иск был отклонен. А на Ван Ранста подали в суд за клевету голландский протестующий, который выступает против вакцинации и мер общественного здравоохранения, таких как изоляция в Бельгии и Нидерландах.
Еще одна тема, которая привлекает большое количество злоупотреблений, — это вопрос происхождения SARS-CoV-2. И австралийские, и британские SMC заявляют, что им трудно найти ученых, которые готовы публично высказаться по этому поводу, опасаясь нападений. Фокс говорит, что британский SMC обратился к более чем 20 ученым с просьбой принять участие в брифинге по этому вопросу, но все отказались.
Вирусолог Даниэль Андерсон, которая сейчас работает в Институте инфекций и иммунитета Питера Доэрти при Мельбурнском университете в Австралии, подверглась интенсивным, скоординированным злоупотреблениям в Интернете и по электронной почте после того, как в начале 2020 года написала критический анализ статьи, предполагающей, что SARS -CoV-2 могла просочиться из китайского Уханьского института вирусологии (WIV).В то время она работала в Медицинской школе Дьюк-Национального университета Сингапура в Сингапуре, но сотрудничала с WIV после эпидемии тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) в 2002–2004 годах. «Съешь летучую мышь и умри, сука», — говорится в одном электронном письме.
Вирусолог Даниэль Андерсон подверглась оскорблениям после критики статьи о происхождении SARS-CoV-2 Фото: Джеймс Багг
Другой исследователь, давно сотрудничающий с WIV, Питер Дашак, президент EcoHealth Alliance в Нью-Йорке, также подвергся оскорблениям.Дашак, который ездил в Ухань в январе в рамках координируемого ВОЗ расследования происхождения SARS-CoV-2, говорит, что у него было письмо с белым порошком, отправленное ему домой, его адрес был опубликован в Интернете, и он регулярно получает угрозы смертью.
Преследование двинулось в обе стороны, когда дело доходит до происхождения SARS-CoV-2. Алина Чан, научный сотрудник Института Броуд Массачусетского технологического института и Гарварда в Кембридже, штат Массачусетс, получила оскорбления за свою работу над идеей о том, что пандемия могла возникнуть в результате воздействия вируса в лаборатории или исследовательском центре (иногда также называемом гипотеза лабораторной утечки).В конечном итоге, по ее словам, оскорбительные нападения контрпродуктивны для людей, которые их совершают. «Они выставляют людей на своей стороне неразумными и опасными», — говорит она. «Во-вторых, они затрудняют привлечение людей к ответственности, потому что теперь всех отвлекает необходимость реагировать на чрезмерно оскорбительные атаки».
Стратегии преодоления
Для исследователей, которые сталкиваются с насилием в Интернете, индивидуальные стратегии преодоления включают попытку игнорировать его; фильтрация и блокировка электронной почты и троллей в социальных сетях; или, за злоупотребления на определенных платформах социальных сетей, удаление их учетных записей.Но это непросто.
«Это очень мучительно, если каждый день вы открываете свою электронную почту, свой Twitter, получаете угрозы смертью, каждый божий день подвергаетесь жестокому обращению, что подрывает вашу работу», — говорит Хилл. По его словам, также требуется время, чтобы просмотреть сообщения и отфильтровать злоумышленников. Это привело к его решению удалить свою учетную запись в Twitter.
Куппалли сохранила свое присутствие в социальных сетях, но более осторожно относится к тому, как она его использует. Теперь ее правило — не отвечать на комментарии или сообщения, когда она расстроена или сердита, или, в некоторых случаях, не отвечать вообще.«Я просто не читаю комментарии и не участвую».
Триш Гринхалг, медицинский исследователь и врач из Оксфордского университета, Великобритания, заявила в марте в Твиттере, что она подверглась «злонамеренному насилию» от другого ученого и блокирует последователей своего обидчика, чтобы им было сложнее преследовать ее. Ранее она писала в Твиттере, что если кто-то оскорбляет ее аспирантов, она попытается идентифицировать обидчика и сообщить о них их работодателю.
Но исследователи не должны пытаться справиться самостоятельно, говорит Творек: институты могут многое сделать, чтобы помочь ученым, подвергающимся жестокому обращению.Персонал службы поддержки может помочь ученым фильтровать и блокировать их электронную почту и сообщать о злоупотреблениях в социальных сетях, а также удалять контактные данные исследователей с веб-сайтов учреждений и сообщать об инцидентах в полицию. «К сожалению, людям часто не верят, — говорит Творек, — даже когда онлайн-угрозы перерастают в офлайновые.
В опросе Nature 44% ученых, которые заявили, что подвергались троллингу или подвергались личным нападениям, заявили, что никогда не говорили об этом своему работодателю.Однако из тех, кто это сделал, почти 80% сочли, что их работодатель «очень» или «в некоторой степени» поддерживает (см. «Поддержка работодателя»). Когда Куппалли проинформировала свой университет, например, ей дали место на парковке намного ближе к ее офису, а ИТ-отдел университета работал над блокировкой некоторых обычных оскорбительных электронных писем.
Источник: Природа анализ
Исследователь общественного здравоохранения Тара Кирк Селл из Центра безопасности здоровья Джона Хопкинса в Балтиморе подверглась атакам через Интернет и электронную почту, особенно после того, как она появилась в консервативной телевизионной сети США, чтобы рассказать о COVID-19.В одном электронном письме предлагалось казнить Селл и ее коллег.
Селл, который подвергался жестокому обращению как бывший профессиональный спортсмен, сообщил об этом электронном письме администраторам, которые передали его сотрудникам службы безопасности кампуса. Они провели расследование, определили отправителя, связались с ними и предупредили, чтобы они остановились. Sell больше ничего о них не слышал. «Я думаю, что многие люди не осознают, что они должны сообщать о своих домогательствах в свое учреждение», — говорит она.
Одна австралийская эпидемиолог, пожелавшая остаться неназванной, потому что не хотела больше жестокого обращения, рассказала Nature , что ей пришлось просить университет о помощи после того, как она получила «мерзкие сексуальные» электронные письма после сообщений в СМИ. интервью по COVID-19.Сначала ее учреждение предполагало, что это ее ответственность. Они приняли меры только после того, как она сравнила онлайн-насилие с кем-то, кто стоит в ее лекционном зале и выкрикивает те же слова, в том числе уничижительную ссылку на ее сексуальную анатомию. «Вы бы вывели этого человека за пределы университетского городка», — сказала она. В конце концов, ее университет удалил ее контактные данные со своего веб-сайта и связал ее с сотрудником службы безопасности кампуса.
В ответ на участившиеся нападения на ученых и работников здравоохранения Королевское общество Канады в мае создало рабочую группу по «защите общественных советов».До конца года планируется выпустить брифинг по политике. «Наша основная задача заключается в том, что мы делаем, чтобы сделать так, чтобы экспертные знания по-прежнему доходили до общественности, и это не заглушалось подобным видом деятельности», — говорит председатель рабочей группы Джулия Райт, специалист по английской литературе из Университета Далхаузи в Галифаксе, Канада. и президент Академии искусств и гуманитарных наук Королевского общества Канады.
Райт говорит, что у некоторых университетов есть официальные правила по борьбе с нападениями на сотрудников, которые варьируются от обеспечения доступа к поддержке со стороны служб консультирования и безопасности до публичных заявлений в поддержку своих ученых и академической свободы.Эти заявления часто очень полезны, говорит Райт, но они также могут дать импульс кампании преследований, которая в противном случае могла бы прекратиться. «Я думаю, что мы все еще пытаемся придумать стратегии решения этой проблемы».
Социальные сети
В социальных сетях происходит много злоупотреблений, что постоянно ставит вопрос о том, какую ответственность компании социальных сетей несут за то, что говорится на их платформах. Среди ученых, ответивших на опрос Nature , 63% использовали Twitter, чтобы комментировать аспекты COVID-19, и около одной трети из них заявили, что они «всегда» или «обычно» подвергались атакам на платформе.
Куппалли сообщил в Твиттер о оскорбительном контенте, но ему сказали, что это не нарушает условий платформы. Хилл отправил в Twitter примеры оскорбительных твитов, которые он получал, с фотографиями повешенных трупов, и получил такой же ответ. Представитель Twitter сказал, что у компании есть четкие правила борьбы с угрозами насилия, жестокого обращения и домогательств, и добавил, что Twitter представил функции для уменьшения злоупотреблений, в том числе технологию обнаружения ненормативной лексики, а также настройки, которые позволяют пользователям контролировать, кто реагирует на их твиты и скрыть некоторые ответы.
Райт вместе с другими исследователями говорит, что компаниям, занимающимся социальными сетями, необходимо делать больше для борьбы со злоупотреблениями и дезинформацией, которые распространяются через их сети. Но платформы настолько велики, что единственный способ справиться с этим — использовать автоматизированные алгоритмы, говорит Райт, от которых легко уклониться. И она беспокоится о том, чтобы поставить компании, работающие в социальных сетях, в положение цензуры.
Последствия преследований
Положительным аспектом пандемии является невероятное количество усилий, которые исследователи вложили в общественную коммуникацию о науке во время кризиса, говорит Фокс.Она рекомендует, чтобы исследователи, находящиеся в центре внимания общественности, были осторожны, выходя за рамки их собственных областей знаний, и старались избегать комментариев, которые могут быть восприняты как политические. Но взаимодействие со СМИ неизбежно чревато нежелательными злоупотреблениями, остановить которые практически невозможно, добавляет она.
Некоторые ученые говорят, что они научились сдерживать свои комментарии о COVID-19. Роберт Буй, педиатр-инфекционист из Сиднейского университета, говорит, что он извлек уроки из поспешных комментариев, сделанных им во время одного поспешного телефонного интервью, проведенного на обочине дороги.«Я сказал:« Можно сделать прививку или пораньше отправиться на небеса », — вспоминает он. «Я не должен был торопиться, я не должен был быть бойким, я должен был оставаться дома и сохранять спокойствие», — говорит он.
В то время как некоторые ученые терпели злоупотребления, другие исключили себя из комментариев даже по относительно бесспорным темам. Опрос Nature выявил случаи, когда ученые хранили молчание: несколько анонимных респондентов написали, что они не решаются говорить о некоторых темах, потому что они видят, что оскорбления относятся к другим.Андерсон говорит, что ее опыт изменил ее представление о науке, и теперь она отказывается от большинства интервью в СМИ.
Творек обеспокоен тем, что нападения и злоупотребления в отношении высокопоставленных ученых могут отпугнуть начинающих исследователей. Это особенно касается женщин, цветных людей и лиц из групп меньшинств. «Возможно, вы видите, что кто-то подвергается жестокому обращению, и вы не хотите подвергаться этому сами, но это может быть особенно, если вы видите кого-то, кто похож на вас», — говорит она.
Куппалли ценит обоюдоострый эффект от того, что ее работа оказалась в центре внимания; она подвергалась преследованиям, но также имела возможность гарантировать, что наука на публичной арене является настолько точной и основанной на доказательствах, насколько это возможно. Она также знает, что как цветная женщина, занимающая видное положение, она обладает необычными привилегиями и ответственностью. «Вот почему я так серьезно отношусь к этому, потому что есть все эти истории, статьи и разные вещи, написанные о том, что женщины не получают возможностей», — говорит она.«Каждый раз, когда у меня появляется такая возможность, я чувствую себя очень благодарным».
фактов — изменение климата: жизненно важные признаки планеты
›на испанском языке
Вкратце:
Прямые наблюдения, проводимые на поверхности Земли и над ней, показывают, что климат планеты значительно меняется. Человеческая деятельность является основной движущей силой этих изменений.
Климат Земли менялся на протяжении всей истории. Только за последние 650 000 лет произошло семь циклов наступления и отступления ледников, причем резкое завершение последнего ледникового периода около 11700 лет назад ознаменовало начало современной климатической эры — и человеческой цивилизации.Большинство этих климатических изменений объясняется очень небольшими изменениями орбиты Земли, которые изменяют количество солнечной энергии, получаемой нашей планетой.
Научные доказательства потепления климатической системы однозначны.
— Межправительственная группа экспертов по изменению климата
Нынешняя тенденция к потеплению имеет особое значение, потому что это однозначно результат деятельности человека с середины 20-го, 90-го, 90-го, 90-го, 90-го века, и происходящего с беспрецедентной скоростью за тысячелетия. 1 Бесспорно, что деятельность человека привела к потеплению атмосферы, океана и суши и что произошли широкомасштабные и быстрые изменения в атмосфере, океане, криосфере и биосфере.
Спутники на околоземной орбите и другие технологические достижения позволили ученым увидеть общую картину, собрав множество различных типов информации о нашей планете и ее климате в глобальном масштабе. Эти данные, собранные за многие годы, выявляют сигналы об изменении климата.
Удерживающая тепло природа углекислого газа и других газов была продемонстрирована в середине 19 века. 2 Их способность влиять на передачу инфракрасной энергии через атмосферу является научной основой многих инструментов НАСА. Нет никаких сомнений в том, что повышенный уровень парниковых газов должен вызвать нагрев Земли в ответ.
Керны льда, взятые из Гренландии, Антарктиды и тропических горных ледников, показывают, что климат Земли реагирует на изменения в уровнях парниковых газов.Древние свидетельства также можно найти в кольцах деревьев, океанских отложениях, коралловых рифах и слоях осадочных пород. Эти древние, или палеоклиматические, свидетельства показывают, что нынешнее потепление происходит примерно в десять раз быстрее, чем средняя скорость потепления во время восстановления ледникового периода. Углекислый газ в результате деятельности человека увеличивается более чем в 250 раз быстрее, чем из природных источников после последнего ледникового периода. 3
Доказательства быстрого изменения климата убедительны:
Повышение глобальной температуры
-
Средняя температура поверхности планеты поднялась примерно на 2 градуса.12 градусов по Фаренгейту (1,18 градуса по Цельсию) с конца 19 века, изменение, вызванное в основном увеличением выбросов углекислого газа в атмосферу и другой деятельностью человека. 4 Большая часть потепления произошла за последние 40 лет, причем семь последних лет были самыми теплыми. 2016 и 2020 годы считаются самыми теплыми годами за всю историю наблюдений. 5
Потепление океана
-
Океан поглотил большую часть этого повышенного тепла, при этом на верхних 100 метрах (около 328 футов) океана наблюдается потепление более чем на 0.6 градусов по Фаренгейту (0,33 градуса по Цельсию) с 1969 года. 6 Земля хранит 90% дополнительной энергии в океане.
Термоусадочные листы
-
Масса ледяных щитов Гренландии и Антарктики уменьшилась. Данные NASA Gravity Recovery and Climate Experiment показывают, что Гренландия теряла в среднем 279 миллиардов тонн льда в год в период с 1993 по 2019 год, в то время как Антарктида теряла около 148 миллиардов тонн льда в год. 7
Изображение: Талая вода с ледникового покрова Гренландии
-
Индикатор текущего объема ледяных щитов Антарктиды и Гренландии с использованием данных со спутника НАСА Grace.
-
Интерактивное исследование того, как глобальное потепление влияет на морской лед, ледники и континентальные ледяные щиты во всем мире.
Ледниковое отступление
-
Ледники отступают почти повсюду по всему миру — в том числе в Альпах, Гималаях, Андах, Скалистых горах, на Аляске и в Африке. 8
Изображение: Исчезающий снежный покров горы Килиманджаро из космоса.
Сниженный снежный покров
-
Спутниковые наблюдения показывают, что количество весеннего снежного покрова в Северном полушарии уменьшилось за последние пять десятилетий, а снег тает раньше. 9
Повышение уровня моря
-
За последний век глобальный уровень моря поднялся примерно на 8 дюймов (20 сантиметров). Тем не менее, за последние два десятилетия этот показатель почти вдвое больше, чем в прошлом веке, и с каждым годом он немного увеличивается. 10
Изображение: Мальдивская Республика: Уязвимость к повышению уровня моря
Нисходящий арктический морской лед
-
Как протяженность, так и толщина арктического морского льда быстро уменьшились за последние несколько десятилетий. 11
Изображение: Визуализация минимума морского льда в Арктике в 2012 г., самого низкого за всю историю наблюдений
-
Индикатор изменения минимума морского льда в Арктике во времени. Протяженность морского льда в Арктике как влияет, так и подвержена влиянию глобального изменения климата.
-
Интерактивное исследование того, как глобальное потепление влияет на морской лед, ледники и континентальные ледяные щиты по всему миру.
-
Операция NASA IceBridge представила полярный лед Земли с беспрецедентной детализацией, чтобы лучше понять процессы, которые связывают полярные регионы с глобальной климатической системой.
Экстремальные события
-
Число явлений с рекордно высокой температурой в Соединенных Штатах увеличивается, в то время как количество явлений с рекордно низкой температурой снижается с 1950 года. В США также наблюдается рост числа случаев сильных дождей. 12
-
Официальный веб-сайт исследовательских миссий НАСА, изучающих осадки и другие типы осадков по всему миру.
-
Земляная вода хранится во льду и снеге, озерах и реках, атмосфере и океане. Что вы знаете о круговороте воды на нашей планете и о решающей роли, которую она играет в нашем климате?
Окисление океана
-
С начала промышленной революции кислотность поверхностных вод океана увеличилась примерно на 30%. 13, 14 Это увеличение является результатом того, что люди выбрасывают больше углекислого газа в атмосферу и, следовательно, больше поглощаются океаном.За последние десятилетия океан поглотил от 20% до 30% общих антропогенных выбросов углекислого газа (от 7,2 до 10,8 миллиардов метрических тонн в год). 15,16
Список литературы
Объяснение науки об изменении климата: факты, доказательства и доказательства
Оценки стоимости сильно различаются. Одно недавнее исследование показало, что поддержание потепления до 2 градусов по Цельсию потребует общих вложений от 4 до 60 триллионов долларов при средней оценке в 16 триллионов долларов при сохранении потепления на уровне 1.5 градусов Цельсия могут стоить от 10 до 100 триллионов долларов при средней оценке в 30 триллионов долларов. (Для справки, в 2019 году вся мировая экономика составляла около 88 триллионов долларов.) Другие исследования показали, что достижение чистого нуля потребует ежегодных инвестиций в размере от менее 1,5 процента мирового валового внутреннего продукта до целых 4 процентов. Это много, но в пределах исторического диапазона инвестиций в энергетику в таких странах, как США
А теперь давайте рассмотрим издержки неконтролируемого изменения климата, которые больше всего лягут на наиболее уязвимых.К ним относятся повреждение собственности и инфраструктуры в результате повышения уровня моря и экстремальных погодных условий, смерть и болезни, связанные со стихийными бедствиями, загрязнением и инфекционными заболеваниями, снижение урожайности сельскохозяйственных культур и снижение производительности труда из-за повышения температуры, снижения доступности воды и увеличения затрат на энергию, а также исчезновение видов и разрушение среды обитания. Доктор Сян, Калифорнийский университет. Экономист из Беркли описывает это как «смерть от тысячи сокращений».
В результате ущерб, нанесенный климату, трудно измерить количественно.По оценкам Moody’s Analytics, даже потепление на 2 градуса по Цельсию обойдется миру в 69 триллионов долларов к 2100 году, и экономисты ожидают, что потери будут расти вместе с температурой. В недавнем опросе экономисты подсчитали, что стоимость составит 5 процентов от глобального ВВП. при потеплении на 3 градуса Цельсия (наша траектория при нынешней политике) и 10 процентах при 5 градусах Цельсия. Другие исследования показывают, что, если текущие тенденции к потеплению сохранятся, глобальный показатель G.D.P. к концу столетия на душу населения снизится на 7–23% — экономический удар, эквивалентный многократным пандемиям коронавируса каждый год.И некоторые опасаются, что это сильно заниженная оценка.
Исследования показывают, что изменение климата привело к сокращению доходов в беднейших странах на целых 30 процентов и снижению производительности сельского хозяйства в мире на 21 процент с 1961 года. Экстремальные погодные явления также привели к значительному снижению доходов. В 2020 году только в Соединенных Штатах связанные с климатом бедствия, такие как ураганы, засухи и лесные пожары, нанесли ущерб предприятиям, собственности и инфраструктуре почти на 100 миллиардов долларов по сравнению со средним показателем в 18 миллиардов долларов в год в 1980-х годах.
Учитывая высокую цену бездействия, многие экономисты говорят, что решение проблемы изменения климата — лучшее дело. Это похоже на старую пословицу: унция профилактики стоит фунта лечения. В этом случае ограничение потепления значительно сократит будущий ущерб и неравенство, вызванные изменением климата. Это также принесет так называемые сопутствующие выгоды, такие как спасение одного миллиона жизней каждый год за счет сокращения загрязнения воздуха и еще миллионы за счет более здорового и безопасного для климата рациона. Некоторые исследования даже показывают, что достижение целей Парижского соглашения может создать рабочие места и увеличить глобальный уровень G.Д.П. И, конечно же, обуздание изменения климата сохранит многие виды и экосистемы, от которых зависит человечество и которые, по мнению многих, имеют собственную врожденную ценность.
Проблема заключается в том, что нам нужно сократить выбросы сейчас, чтобы избежать повреждений в будущем, что потребует больших инвестиций в течение следующих нескольких десятилетий. И чем дольше мы откладываем, тем больше мы будем платить, чтобы достичь парижских целей. Один недавний анализ показал, что достижение нуля к 2050 году обойдется США почти в два раза дороже, если мы подождем до 2030 года, а не будем действовать сейчас.Но даже если мы не достигнем цели в Париже, экономика по-прежнему будет убедительным аргументом в пользу действий по борьбе с изменением климата, потому что каждый дополнительный градус потепления будет стоить нам больше — в долларах и жизнями.
Вернуться к началу.
Вероника Пенни предоставила репортаж.
Иллюстрации к фотографиям Эстер Хорват, Макса Уиттакера, Дэвида Мориса Смита и Талии Херман для The New York Times; Эстер Хорват / Институт Альфреда Вегенера
«Просто теория»: 7 неправильно используемых научных слов
Гипотеза.Теория. Закон. Эти научные слова используются регулярно, но широкая публика обычно неправильно понимает их значение.
Один ученый утверждает, что люди должны полностью отказаться от этих неправильно понятых слов и заменить их словом «модель». Но это не единственные научные слова, которые вызывают проблемы, и простая замена этих слов другими просто приведет к появлению новых, широко неправильно понимаемых терминов, сказали несколько других ученых.
«Такое слово, как« теория », является научно-техническим термином, — сказал Майкл Файер, химик из Стэнфордского университета.«Тот факт, что многие люди неправильно понимают его научное значение, не означает, что мы должны прекратить его использовать. Это означает, что нам нужно более качественное научное образование».
Вот семь научных слов, от «теории» до «значимых», которые часто используются неправильно.
1. Гипотеза
Широкая публика настолько широко злоупотребляет словами «гипотеза», «теория» и «закон», что ученым следует прекратить использовать эти термины, пишет физик Ретт Аллен из Университета Юго-Восточной Луизианы в своем блоге на Wired Science.[Удивительная наука: 25 забавных фактов]
«Я не думаю, что сейчас стоит экономить эти слова», — сказал Аллен LiveScience.
Гипотеза — это предлагаемое объяснение чего-то, что действительно можно проверить. Но «если вы просто спросите кого-нибудь, что такое гипотеза, он сразу же скажет« обоснованное предположение »», — сказал Аллен.
2. Просто теория?
Отрицатели изменения климата и креационисты использовали слово «теория», чтобы поставить под сомнение изменение климата и его эволюцию.
«Как будто это неправда, потому что это всего лишь теория», — сказал Аллен.
И это несмотря на то, что подавляющее количество доказательств поддерживает как изменение климата, вызванное деятельностью человека, так и теорию эволюции Дарвина.
Отчасти проблема в том, что слово «теория» на непрофессиональном языке означает нечто совершенно иное, чем в науке: научная теория — это объяснение некоторого аспекта естественного мира, которое было подтверждено посредством многократных экспериментов или проверок.Но для средней Джейн или Джо теория — это просто идея, живущая в чьей-то голове, а не объяснение, основанное на эксперименте и проверке.
3. Модель
Однако теория — не единственная научная фраза, которая вызывает проблемы. Даже термин, который предпочитает Аллен вместо гипотезы, теории и закона — «модель» — имеет свои проблемы. Это слово относится не только к игрушечным машинкам и взлетно-посадочным полосам, но также означает разные вещи в разных областях науки. Например, климатическая модель сильно отличается от математической модели.
«Ученые из разных областей используют эти термины по-разному, — написал Джон Хоукс, антрополог из Университета Висконсин-Мэдисон в электронном письме LiveScience. «Я не думаю, что« модель »улучшает положение вещей. Прямо сейчас в физике она выглядит солидно, в основном из-за Стандартной модели. Напротив, в генетике и эволюции« модели »используются совсем по-другому». (Стандартная модель является доминирующей теорией, управляющей физикой элементарных частиц.)
4.Скептик
Когда люди не приемлют изменение климата, вызванное деятельностью человека, средства массовой информации часто называют этих людей «скептиками климата». Но это может дать им слишком большую заслугу, написал в электронном письме Майкл Манн, ученый-климатолог из Университета штата Пенсильвания.
«Просто отрицать господствующую науку, основанную на неубедительной, недействительной и слишком часто основанной на повестке дня критике науки, — это вовсе не скептицизм. Это противоположность … или отрицание», — сказал Манн LiveScience.
Напротив, истинные скептики открыты для научных доказательств и готовы их беспристрастно оценивать.
«Все ученые должны быть скептиками. Истинный скептицизм — это, как его описал [Карл] Саган,« самокорректирующийся механизм »науки», — сказал Манн.
5. Природа vs. воспитание
Фраза «природа против воспитания» также вызывает у ученых головную боль, поскольку радикально упрощает очень сложный процесс, — сказал Дэн Крюгер, биолог-эволюционист из Мичиганского университета.
«Это то, от чего современные эволюционисты съеживаются», — сказал Крюгер LiveScience.
Гены могут влиять на людей, но также могут влиять на эпигенетические изменения. Эти модификации изменяют то, какие гены включаются, и они наследуются и легко поддаются влиянию окружающей среды. По словам Крюгера, среда, которая формирует человеческое поведение, может быть чем угодно, от химических веществ, воздействию которых подвергается плод в утробе матери, до блока, на котором вырос человек, и до той пищи, которую он ел в детстве. Все эти факторы взаимодействуют беспорядочно и непредсказуемо.
6. Значительное
Еще одно слово, которое заставляет ученых насторожить, — «значительный».«
«Это громкое ласковое слово. Означает ли оно статистически значимое или важное?» сказал Майкл О’Брайен, декан Колледжа искусств и наук Университета Миссури.
В статистике есть что-то значимое, если разница вряд ли возникла из-за случайного совпадения. Но это может не привести к существенной разнице, скажем, в симптомах головной боли или IQ.
7. Натуральный
«Натуральный» — еще одна пугала ученых.Этот термин стал синонимом добродетели, здоровья или доброты. Но не все искусственное вредно для здоровья, и не все естественное полезно для вас.
«Уран — это натуральное вещество, и если вы введете его в достаточном количестве, вы умрете», — сказал Крюгер.
«Органический» аналог Natural также имеет проблемное значение, сказал он. Хотя для ученых термин «органический» означает просто «углеродный», в настоящее время этот термин используется также для описания персиков, не содержащих пестицидов, и хлопковых простыней высокого качества.
Плохое образование
Но хотя эти слова могут обычно неправильно пониматься, настоящая проблема, по словам ученых, заключается в том, что люди не получают строгого научного образования в средней и старшей школе. В результате общественность не понимает, как формируются, проверяются и принимаются научные объяснения.
Более того, человеческий мозг, возможно, не эволюционировал, чтобы интуитивно понимать ключевые научные концепции, такие как гипотезы или теории, сказал Крюгер.
Большинство людей склонны использовать мысленные ярлыки, чтобы разобраться в какофонии информации, которую они представляют каждый день.
Одна из этих тенденций — проводить «бинарное различие между тем, что истинно в абсолютном смысле, и чем-то ложным или ложным», — сказал Крюгер. «С наукой это скорее континуум. Мы постоянно развиваем наше понимание».
Авторское право 2013 LiveScience, компания TechMediaNetwork. Все права защищены.Этот материал нельзя публиковать, транслировать, переписывать или распространять.
Наука о землетрясениях
Нормальный (падение-скольжение) разлом — это наклонная трещина, в которой горная порода над наклонным разломом движется вниз (общественное достояние).
Что такое землетрясение?
Землетрясение — это то, что происходит, когда два земных блока внезапно скользят друг мимо друга. Поверхность, на которой они скользят, называется разломом или плоскостью разлома .Место под земной поверхностью, где начинается землетрясение, называется гипоцентром , а место прямо над ним на поверхности земли называется эпицентром .
Иногда землетрясение имеет форшоков . Это более мелкие землетрясения, которые происходят в том же месте, что и последующее более сильное землетрясение. Ученые не могут сказать, что землетрясение является форшоком, пока не произойдет более сильное землетрясение. Самое сильное, главное землетрясение получило название главного толчка , .У главных толчков всегда афтершока, за которыми следуют . Это более мелкие землетрясения, которые впоследствии происходят в том же месте, что и главный толчок. В зависимости от величины главного толчка афтершоки могут продолжаться в течение недель, месяцев и даже лет после главного толчка!
Упрощенный рисунок коры (коричневый), мантии (оранжевый) и ядра (жидкость светло-серого цвета, твердое тело темно-серого цвета) Земли. (Общественное достояние.)
Что вызывает землетрясения и где они случаются?
Земля состоит из четырех основных слоев: внутреннего ядра, внешнего ядра, мантии и коры .Кора и верх мантии составляют тонкую оболочку на поверхности нашей планеты.
Но этот скин не весь цельный — он состоит из множества частей, как пазл, покрывающий поверхность земли. Не только это, но и эти части головоломки продолжают медленно перемещаться, скользя друг мимо друга и натыкаясь друг на друга. Мы называем эти части головоломки тектоническими плитами , а края плит называем границами плит . Границы плит состоят из множества разломов, и большинство землетрясений во всем мире происходит именно из-за этих разломов.Поскольку края пластин неровные, они застревают, а остальная часть пластины продолжает двигаться. Наконец, когда плита продвинулась достаточно далеко, края одного из разломов отклеиваются, и происходит землетрясение.
Тектонические плиты делят земную кору на отдельные «плиты», которые всегда медленно перемещаются. Землетрясения сосредоточены вдоль этих границ плит. (Общественное достояние.)
Почему дрожит земля при землетрясении?
Пока края разломов слипаются, а остальная часть блока движется, энергия, которая обычно заставляет блоки скользить мимо друг друга, накапливается.Когда сила движущихся блоков наконец преодолевает трение зубчатых краев разлома и он отклеивается, вся накопленная энергия высвобождается. Энергия излучается наружу от разлома во всех направлениях в виде сейсмических волн , подобных ряби на пруду. Сейсмические волны сотрясают землю, когда проходят через нее, и когда волны достигают поверхности земли, они сотрясают землю и все на ней, например, наши дома и нас!
Как регистрируются землетрясения?
На карикатурном изображении сейсмографа показано, как прибор сотрясается вместе с землей под ним, но записывающее устройство остается неподвижным (а не наоборот).(Общественное достояние.)
Землетрясения регистрируются приборами, называемыми сейсмографами . Запись, которую они делают, называется сейсмограммой . Сейсмограф имеет основание, которое прочно устанавливается в землю, и тяжелый груз, который свободно висит. Когда землетрясение вызывает сотрясение земли, основание сейсмографа тоже трясется, но подвешенный груз — нет. Вместо этого пружина или веревка, на которой он висит, поглощают все движения. Регистрируется разница в положении колеблющейся части сейсмографа и неподвижной части.
Как ученые измеряют силу землетрясений?
Размер землетрясения зависит от размера разлома и величины смещения разлома, но это не то, что ученые могут просто измерить с помощью рулетки, поскольку разломы находятся на глубине многих километров под поверхностью земли. Итак, как они измеряют землетрясение? Они используют сейсмограмму , запись , сделанную на сейсмографах на поверхности земли, чтобы определить, насколько сильным было землетрясение (рис. 5).Короткая извивающаяся линия, которая не очень сильно извивается, означает небольшое землетрясение, а длинная изгибающаяся линия, которая сильно изгибается, означает сильное землетрясение. Длина покачивания зависит от размера дефекта, а размер покачивания зависит от величины скольжения.
Землетрясение силойбаллов составляет балла. Каждое землетрясение имеет одну магнитуду. Ученые также говорят о интенсивности сотрясения от землетрясения, и это варьируется в зависимости от того, где вы находитесь во время землетрясения.
Пример сейсмической волны с пометкой P-волна и S-волна. (Общественное достояние.)
Как ученые могут сказать, где произошло землетрясение?
Сейсмограммытакже пригодятся для определения местоположения землетрясений, и важно иметь возможность увидеть P-волну и S-волну . Вы узнали, как каждая из волн P&S сотрясает землю по-разному, проходя через нее. P-волны также быстрее, чем S-волны, и это то, что позволяет нам сказать, где было землетрясение.Чтобы понять, как это работает, давайте сравним волны P и S с молнией и громом. Свет распространяется быстрее звука, поэтому во время грозы вы сначала увидите молнию, а затем услышите гром. Если вы находитесь близко к молнии, гром раздастся сразу после молнии, но если вы находитесь далеко от молнии, вы можете сосчитать несколько секунд, прежде чем услышите гром. Чем дальше вы от бури, тем больше времени пройдет между молнией и громом.
P-волны подобны молнии, а S-волны подобны грому.Волны P распространяются быстрее и сотрясают землю в том месте, где вы находитесь первым. Затем следуют S-волны и тоже сотрясают землю. Если вы находитесь близко к землетрясению, волны P и S будут приходить одна за другой, но если вы находитесь далеко, между ними будет больше времени.
P Волны попеременно сжимают и растягивают материал земной коры параллельно направлению своего распространения. S Волны заставляют материал земной коры двигаться вперед и назад перпендикулярно направлению их движения.(Общественное достояние.)
Глядя на промежуток времени между P и S волнами на сейсмограмме, записанной на сейсмографе, ученые могут сказать, как далеко до этого места было землетрясение. Однако они не могут сказать, в каком направлении от сейсмографа произошло землетрясение, только насколько далеко оно было. Если они начертят круг на карте вокруг станции, где радиус круга является определенным расстоянием до землетрясения, они знают, что землетрясение находится где-то на круге.Но где?
Затем ученые используют метод под названием триангуляция , чтобы точно определить место землетрясения (см. Изображение ниже). Это называется триангуляцией, потому что треугольник имеет три стороны, и для определения места землетрясения требуется три сейсмографа. Если вы нарисуете круг на карте вокруг трех разных сейсмографов, где радиус , радиус каждого — это расстояние от этой станции до землетрясения, пересечение этих трех кругов будет эпицентром !
Могут ли ученые предсказывать землетрясения?
Нет, и вряд ли они когда-нибудь смогут их предсказать.Ученые пробовали много разных способов предсказания землетрясений, но ни один из них не увенчался успехом. По любой конкретной неисправности ученые знают, что когда-нибудь в будущем произойдет еще одно землетрясение, но у них нет возможности предсказать, когда это произойдет.
Есть такое понятие, как погода при землетрясениях? Могут ли животные или люди сказать, когда землетрясение вот-вот начнется?
Это два вопроса, на которые пока нет однозначных ответов. Если погода действительно влияет на возникновение землетрясений, или если некоторые животные или люди могут сказать, когда землетрясение приближается, мы еще не понимаем, как это работает.
Триангуляция может использоваться для определения места землетрясения. Сейсмометры показаны зелеными точками. Расчетное расстояние от каждого сейсмометра до землетрясения показано кружком. Место пересечения всех кругов — это место эпицентра землетрясения. (Общественное достояние.)
Политика конфиденциальности детей
Ведущие ученые призывают к созданию универсальной вакцины против коронавируса
Предоставлено: Pixabay / CC0 Public Domain.Престижный журнал Science в четверг опубликовал редакционную статью с призывом к глобальным усилиям по разработке универсальной вакцины против коронавируса, которая оставалась бы эффективной против других членов того же семейства вирусов, которые могут передаваться людям.
Уэйн Кофф, глава Проекта по вакцинам для человека, и Сет Беркли, возглавляющий глобальный альянс вакцин Gavi, заявили, что, хотя пандемия COVID-19 еще далека от завершения, человечество теперь располагало инструментами, чтобы положить ей конец, и предпринимало максимум усилий. кампания быстрой иммунизации в истории.
Но они предупредили: «Еще более опасные и смертоносные коронавирусы ждут своего часа.Таким образом, миру нужна универсальная вакцина от коронавируса ».
SARS-CoV-2 принадлежит к разнородной группе вирусов, тысячи которых характеризуются своим короноподобным внешним видом, который происходит из-за шипованных белков, которые усеивают их поверхности.
Они способны заразить широкий круг животных, от летучих мышей и ящеров до свиней и норок.
Известно, что четыре коронавируса вызывают простуду у людей, и исторически они не считались приоритетными для исследований.
Ситуация изменилась со вспышкой SARS-CoV-1 в 2002 году, в результате которой погибло около 8000 человек, а уровень смертности составил 10 процентов.
Коронавирус ближневосточного респираторного синдрома (БВРС-КоВ) в 2012 году привел к 34 процентам смертельных исходов.
Кофф и Беркли написали, что существует риск того, что SARS-CoV-2 может мутировать таким образом, что существующие вакцины станут менее эффективными — как уже было замечено с вариантом из Южной Африки — или даже станут неэффективными.
Кроме того, растет вероятность того, что другие коронавирусы смогут преодолеть видовой барьер.
«Современные методы ведения сельского хозяйства, вирусная эволюция и безжалостное вторжение человека в природную среду означают, что существует растущий риск того, что люди столкнутся с ранее изолированными популяциями животных, которые содержат новые штаммы с пандемическим потенциалом», — заявили они.
«С миграцией людей, ростом населения, урбанизацией, быстрыми перемещениями по всему миру и изменением климата, ускоряющим распространение, вспышкам никогда не было так просто превратиться в эпидемии и перерасти в пандемии.«
С другой стороны, утверждали они, успехи в биомедицинских исследованиях, вычислительной технике и инженерных науках открыли новую эру в открытии вакцин.
Высокопроизводительные суперкомпьютеры могут помочь идентифицировать новые «антигены» — ключевые вирусные белки, вызывающие иммунные реакции, которые вакцины используют для тренировки нашего организма.
Базы данных генетических последовательностей коронавирусов животных можно использовать для моделирования их развития. А исследования того, как иммунная система снижается с возрастом, могут помочь улучшить дизайн вакцины.
«Это должно быть всемирное усилие. Необходима дорожная карта, чтобы изложить основные научные проблемы, а также рамки для финансирования и обмена информацией, данными и ресурсами», — заявили ученые.
По их словам, это будет непросто, но «если мы решим дождаться появления следующего коронавируса, может быть уже слишком поздно, как это было с COVID-19».
Следите за последними новостями о вспышке коронавируса (COVID-19)
Дополнительная информация: Универсальная вакцина против коронавируса, Science , 19 февраля 2021 г .: Vol.371, выпуск 6531, стр. 759, DOI: 10.1126 / science.abh0447, science.sciencemag.org/content/371/6531/759
© 2021 AFP
Ссылка : Ведущие ученые призывают к универсальной вакцине против коронавируса (18 февраля 2021 г.) получено 19 октября 2021 г. из https: // medicalxpress.ru / news / 2021-02-science-universal-coronavirus-Vacine.html
Этот документ защищен авторским правом. За исключением честных сделок с целью частного изучения или исследования, никакие часть может быть воспроизведена без письменного разрешения. Контент предоставляется только в информационных целях.
7 самых больших проблем, стоящих перед наукой, по мнению 270 ученых
Наука в большой беде.По крайней мере, нам так сказали.
За последние несколько лет многие ученые столкнулись с серьезным сомнением — сомнением в самом научном учреждении.
Как репортеры, освещающие медицину, психологию, изменение климата и другие области исследований, мы хотели разобраться в этой эпидемии сомнений. Поэтому мы разослали ученым опрос, в котором задавался такой простой вопрос: если бы вы могли изменить одну вещь в том, как работает наука сегодня, что бы это было и почему?
Мы получили отзывы от 270 ученых со всего мира, включая аспирантов, старших профессоров, руководителей лабораторий и медалистов Филдса.Они сказали нам, что их карьеру разными способами хватают извращенные стимулы. Результат — плохая наука.
Научный процесс в своей идеальной форме элегантен: задайте вопрос, установите объективный тест и получите ответ. Повторить. Наука редко практикуется в соответствии с этим идеалом. Но Коперник верил в этот идеал. Так же поступили и ученые-ракетчики, стоявшие за высадкой на Луну.
Но сегодня, как сказали нам наши респонденты, этот процесс пронизан конфликтами. Ученые говорят, что они вынуждены отдавать приоритет самосохранению, а не поиску лучших вопросов и раскрытию значимых истин.
«Я чувствую себя разрывающимся между заданием вопросов, которые, как я знаю, приведут к статистической значимости, и заданием важных вопросов», — говорит Кэтрин Брэдшоу, 27-летняя аспирантка консультирования Университета Северной Дакоты.
Сегодня успех ученых часто не измеряется качеством их вопросов или строгостью их методов. Вместо этого он измеряется тем, сколько грантовых денег они выиграли, количеством опубликованных исследований и тем, как они используют свои выводы, чтобы привлечь внимание общественности.
«Смысл исследования в том, чтобы сделать других профессиональных ученых счастливыми, или же в том, чтобы узнать больше об окружающем мире?»
—Ноа Гранд, бывший преподаватель социологии, Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе
Ученые часто узнают больше из исследований, которые терпят неудачу. Но неудавшаяся учеба может означать смерть карьеры. Поэтому вместо этого они заинтересованы в достижении положительных результатов, которые они могут опубликовать. И фраза «опубликовать или погибнуть» нависает почти над каждым решением. Это ворчливый шепот, как путь джедая на темную сторону.
«Со временем наиболее успешными будут те, кто сможет лучше всего использовать систему», — говорит Пол Смалдино, профессор когнитивных наук в Калифорнийском университете в Мерседе.
По мнению Смальдино, давление отбора в науке благоприятствовало менее чем идеальным исследованиям: «Пока такие вещи, как количество публикаций и публикация ярких результатов в модных журналах, будут стимулироваться, а люди, которые могут это сделать, будут вознаграждены … они будут успешными и передают свои успешные методы другим ».
Многим ученым надоело. Они хотят разорвать этот круг извращенных стимулов и вознаграждений. Они переживают период самоанализа, надеясь, что конечный результат приведет к укреплению научных институтов.В нашем опросе и интервью они предлагали самые разные идеи по улучшению научного процесса и приближению его к идеальной форме.
Прежде чем мы начнем, следует иметь в виду несколько предостережений. Наш опрос не был научным. Во-первых, непропорционально много респондентов были из биомедицинских и социальных наук, а также из англоязычных сообществ.
Многие из ответов, однако, наглядно иллюстрируют проблемы и порочные стимулы, с которыми сталкиваются ученые из разных областей.И они — ценная отправная точка для более глубокого взгляда на дисфункции в современной науке.
Место для начала — это то место, где сначала начинают закрадываться извращенные стимулы: деньги.
Аннет Элизабет АлленУ академии огромная проблема с деньгами
Для проведения большинства исследований ученым нужны деньги: для проведения исследований, субсидирования лабораторного оборудования, оплаты своих помощников и даже своей зарплаты.Наши респонденты сказали нам, что получение — и сохранение — этого финансирования является постоянным препятствием.
Их недовольство касается не только количества, которое во многих областях сокращается. Это способ раздачи денег, который заставляет лаборатории публиковать множество статей, порождает конфликты интересов и побуждает ученых преувеличивать свою работу.
В Соединенных Штатах академические исследователи в области науки обычно не могут полагаться только на финансирование университетов для оплаты своих зарплат, ассистентов и затрат на лаборатории.Вместо этого им приходится искать внешние гранты. «Во многих случаях ожидалось и остается то, что преподаватели должны покрывать не менее 75 процентов зарплаты по грантам», — пишет Джон Чатем, профессор медицины, изучающий сердечно-сосудистые заболевания в Университете Алабамы в Бирмингеме.
Гранты также обычно истекают примерно через три года, что отталкивает ученых от долгосрочных проектов. Тем не менее, как отмечает Джон Пули, постдок по нейробиологии из Бристольского университета, для раскрытия самых крупных открытий обычно требуются десятилетия, и они вряд ли произойдут при краткосрочных схемах финансирования.
Внешних грантов также становится все меньше. В США крупнейшим источником финансирования является федеральное правительство, и этот денежный фонд неуклонно снижается в течение многих лет, в то время как молодые ученые попадают в рабочую силу быстрее, чем ученые старшего возраста выходят на пенсию.
Возьмите Национальный институт здоровья, главный источник финансирования. Его бюджет стремительно рос в 1990-е годы, застопорился в 2000-х, а затем упал из-за сокращения бюджета на секвестры в 2013 году.В то же время рост затрат на ведение науки означал, что на каждый доллар NIH покупалось все меньше и меньше. В прошлом году Конгресс одобрил самый большой рост расходов NIH за десятилетие. Но это не устранит недостатка.
Последствия поразительны: в 2000 году было одобрено более 30 процентов заявок на гранты NIH. Сегодня она приближается к 17 процентам. «Именно из-за того, что произошло за последние 12 лет, молодые ученые особенно чувствуют такое давление», — сказал директор Национального института здравоохранения Фрэнсис Коллинз на конференции Milken Global в мае.
Некоторые из наших респондентов сказали, что эта жесткая конкуренция за финансовые ресурсы может повлиять на их работу. Финансирование «влияет на то, что мы изучаем, что публикуем, на риски, которые мы (часто не принимаем)», — объясняет Гэри Беннетт, нейробиолог из Университета Дьюка. Это «подталкивает нас делать упор на безопасную, предсказуемую (читай: финансируемую) науку».
По-настоящему новое исследование требует больше времени и не всегда окупается. Рабочий документ Национального бюро экономических исследований показал, что в целом действительно нетрадиционные статьи, как правило, менее последовательно цитируются в литературе.Поэтому ученые и спонсоры все больше уклоняются от них, предпочитая краткосрочные и более безопасные документы. Но от этого страдают все: в отчете NBER было обнаружено, что новые статьи также иногда приводят к большим успехам, которые вдохновляют на дальнейшие исследования.
«Я думаю, что из-за того, что вы должны публиковаться, чтобы сохранить свою работу и довольствоваться финансирующими агентствами, существует множество (посредственных) научных работ … в которых представлено не так много новой науки», — пишет Кейтлин Суски, специалист по химии и атмосфере. научный постдок в Государственном университете Колорадо.
Еще одно беспокойство: когда иссякают независимые, государственные или университетские источники финансирования, ученые могут почувствовать необходимость обратиться к промышленным или заинтересованным группам, стремящимся провести исследования для поддержки своих программ.
«При таком ограниченном финансировании со стороны NIH, USDA и фондов … исследователи чувствуют себя обязанными — или охотно ищут — поддержки пищевой промышленности. Частый результат? Конфликт интересов».
— Мэрион Нестле, профессор продовольственной политики Нью-Йоркского университета.
Например, большая часть науки о питании уже финансируется пищевой промышленностью — неизбежный конфликт интересов.И подавляющее большинство клинических испытаний лекарств финансируется их производителями. Исследования показали, что исследования, финансируемые частным сектором, обычно дают более благоприятные для спонсоров выводы.
Наконец, написание грантов отнимает уйму времени и отнимает ресурсы у самой научной работы. Тайлер Джозефсон, аспирант инженерного факультета Делавэрского университета, пишет, что многие профессора, которых он знает, тратят 50 процентов своего времени на составление заявок на гранты.«Представьте себе, — спрашивает он, — что они могли бы сделать, если бы больше времени уделяли преподаванию и исследованиям?»
Легко увидеть, как эти проблемы с финансированием создают порочный круг. Чтобы быть более конкурентоспособными на гранты, ученые должны публиковать работы. Чтобы опубликовать работу, им нужны положительные (т. Е. Статистически значимые) результаты. Это заставляет ученых выбирать «безопасные» темы, которые приведут к опубликованным выводам, или, что еще хуже, может склонить их исследования к значительным результатам.
«Когда структура финансирования и оплаты противопоставляется академическим ученым, — пишет Элисон Бернстайн, доктор нейробиологии в Университете Эмори, — все эти проблемы обостряются».
Исправления проблем с финансированием науки
Сейчас, возможно, слишком много исследователей гонятся за слишком малым количеством грантов. Или, как говорится в статье Proceedings of the National Academy of Sciences от 2014 года: «Существующая система постоянно находится в неравновесном состоянии, потому что она неизбежно приведет к постоянно растущему притоку ученых, соперничающих за ограниченный набор исследовательских ресурсов и ресурсов. возможности трудоустройства.«
«В настоящее время слишком большая часть финансирования исследований достается слишком немногим исследователям», — пишет Гордон Пенникук, кандидат наук по когнитивной психологии из Университета Ватерлоо. «Это создает культуру, которая поощряет быстрые, сексуальные (и, возможно, неправильные) результаты».
Один из простых способов решить эти проблемы — это для правительства просто увеличить количество денег, доступных для науки. (Или, что более спорно, уменьшить количество докторов наук, но мы вернемся к этому позже.) Если Конгресс увеличит финансирование NIH и Национального научного фонда, это снизит давление со стороны конкурентов на исследователей.
Но это только так. Финансирование всегда будет ограниченным, и исследователи никогда не получат пустых чеков для финансирования рискованных научных проектов своей мечты. Так что потребуются и другие реформы.
Одно предложение: привнесите больше стабильности и предсказуемости в процесс финансирования. «Бюджеты NIH и NSF зависят от меняющихся прихотей Конгресса, которые не позволяют агентствам (и исследователям) делать долгосрочные планы и обязательства», — сказал М.Пишет Пол Мерфи, профессор нейробиологии Университета Кентукки. «Очевидное решение — просто сделать [научное финансирование] стабильной программой с ежегодными темпами роста, так или иначе связанными с инфляцией».
«Жесткая конкуренция приводит к тому, что лидеры групп отчаянно работают, чтобы получить хоть какие-то деньги, просто чтобы не закрывать свои лаборатории, не подавать больше предложений, не перегружать систему грантов. Это всевозможные порочные круги друг над другом».
—Maximilian Press, аспирант кафедры геномных наук, Вашингтонский университет
Другая идея — изменить порядок предоставления грантов: фонды и агентства могли бы финансировать конкретных людей и лаборатории в течение определенного периода времени, а не отдельные проектные предложения.(Медицинский институт Говарда Хьюза уже делает это.) Подобная система дала бы ученым больше свободы рисковать в своей работе.
С другой стороны, исследователи из журнала mBio недавно призвали к системе лотерейного стиля. Предложения будут оцениваться по существу, но затем компьютер случайным образом выбирает, какие из них будут профинансированы.
«Хотя мы признаем, что некоторые ученые будут съеживаться при мысли о распределении средств с помощью лотереи, — пишут авторы статьи mBio », — имеющиеся данные свидетельствуют о том, что система уже по сути является лотереей без преимуществ случайного выбора. .«Чистая случайность, по крайней мере, уменьшила бы некоторые извращенные стимулы, действующие в игре за деньги.
Есть также некоторые идеи по минимизации конфликта интересов из-за финансирования отрасли. Недавно, в статье PLOS Medicine , эпидемиолог из Стэнфорда Джон Иоаннидис предложил фармацевтическим компаниям объединить средства, которые они используют для финансирования исследований лекарств, и передать их ученым, которые затем не обмениваются с промышленностью при разработке и проведении исследования. Таким образом, ученые по-прежнему могут получить финансирование для работы, имеющей решающее значение для утверждения лекарств, но без давления, которое может исказить результаты.
Эти решения ни в коем случае не являются полными и могут не иметь смысла для каждой научной дисциплины. Ежедневные стимулы, с которыми сталкиваются ученые-биомедики для вывода на рынок новых лекарств, отличаются от стимулов, с которыми сталкиваются геологи, пытающиеся нанести на карту новые слои горных пород. Но, судя по нашему опросу, финансирование, по-видимому, лежит в основе многих проблем, с которыми сталкиваются ученые, и заслуживает более внимательного обсуждения.
Аннет Элизабет АлленСлишком много исследований плохо спланированы.Во всем виноваты плохие стимулы.
Ученые в конечном итоге оцениваются по исследованиям, которые они публикуют. А давление с целью публикации подталкивает ученых к выдающимся результатам, которые попадают в престижные журналы. «Захватывающие, новые результаты более доступны для публикации, чем другие виды исследований», — говорит Брайан Носек, соучредитель Центра открытой науки в Университете Вирджинии.
Проблема здесь в том, что поистине новаторские открытия попросту встречаются не очень часто, а это означает, что ученые вынуждены играть в свои исследования, чтобы они оказались немного более «революционными».»(Предостережение: многие респонденты, сосредоточившие свое внимание на этом конкретном вопросе, были из биомедицинских и социальных наук.)
Некоторые из этих предубеждений могут закрасться в решения, которые принимаются на раннем этапе: выбор, следует ли рандомизировать участников, в том числе контрольную группу для сравнения, или контроль определенных смешивающих факторов, но не других. (Подробнее о деталях дизайна исследования читайте здесь.)
Многие из респондентов нашего опроса отметили, что извращенные стимулы также могут подтолкнуть ученых к тому, чтобы срезать углы в том, как они анализируют свои данные.
«Я испытываю невероятный стресс, который, возможно, когда я закончу анализировать данные, они не будут казаться мне достаточно значительными, чтобы защищать их», — пишет Джесс Каутц, аспирант из Университета Аризоны. «И если я получу посредственные результаты, возникнет невероятное давление, чтобы представить это как хороший результат, чтобы они могли вытащить меня за дверь. Сейчас, когда я думаю обо всем этом, я задаюсь вопросом, могу ли я дать интеллектуально честную оценку моей собственной работе ».
«Новая информация важнее более веских доказательств, которые задают параметры для работающих ученых.
— Джон-Патрик Аллем, постдокторский социолог, Медицинская школа Кека USC
Все чаще мета-исследователи (которые проводят исследования в области исследований) понимают, что ученые часто находят небольшие способы разрекламировать свои собственные результаты — и они » Мы не всегда делаем это сознательно. Среди наиболее известных примеров — метод под названием «p-hacking», при котором исследователи проверяют свои данные на соответствие множеству гипотез и сообщают только о тех, которые имеют статистически значимые результаты.
В недавнем исследовании, в котором отслеживалось неправильное использование p-значений в биомедицинских журналах, мета-исследователи обнаружили «эпидемию» статистической значимости: 96 процентов статей, которые включали p-значение в свои аннотации, имели статистически значимые результаты.
Это кажется ужасно подозрительным. Это говорит о том, что биомедицинское сообщество преследует статистическую значимость, потенциально придавая сомнительным результатам видимость достоверности с помощью таких методов, как p-hacking, или просто подавляя важные результаты, которые не выглядят достаточно значительными. В меньшем количестве исследований указываются размеры эффекта (что, возможно, дает лучшее представление о том, насколько значимым может быть результат) или обсуждаются меры неопределенности.
«Существующая система сделала слишком много для вознаграждения за результаты», — говорит Джозеф Хилгард, научный сотрудник Центра общественной политики Анненберга.«Это вызывает конфликт интересов: ученый отвечает за оценку гипотезы, но ученый также отчаянно хочет, чтобы гипотеза была верной».
Последствия ошеломляют. По оценкам мета-исследователей, проанализировавших неэффективность исследований, около 200 миллиардов долларов — или эквивалент 85 процентов глобальных расходов на исследования — обычно тратятся на плохо спланированные и избыточные исследования. Мы знаем, что до 30 процентов наиболее влиятельных оригинальных медицинских исследований позже оказываются ошибочными или преувеличенными.
Исправления плохого дизайна исследования
Наши респонденты предположили, что два основных способа поощрения более строгого дизайна исследования — и предотвращения погони за положительными результатами — будут включать переосмысление системы вознаграждений и повышение прозрачности исследовательского процесса.
«Я бы получил вознаграждение на основе строгости методов исследования, а не результатов исследования», — пишет Симин Вазир, редактор журнала и профессор социальной психологии Калифорнийского университета в Дэвисе.«Гранты, публикации, вакансии, награды и даже освещение в средствах массовой информации должны больше основываться на том, насколько хорош план и методы исследования, а не на том, был ли результат значительным или неожиданным».
Точно так же математик из Кембриджа Тим Гауэрс утверждает, что исследователи должны получать признание за широкое развитие науки через неформальный обмен идеями, а не только за то, что они публикуют.
«Мы привыкли работать наедине, а затем выпускать своего рода отточенный документ в виде журнальной статьи», — сказал Гауэрс.«Это имеет тенденцию скрывать большую часть мыслительного процесса, который использовался при совершении открытий. Я бы хотел, чтобы отношение людей изменилось, чтобы люди меньше сосредотачивались на гонке за то, чтобы первыми доказать определенную теорему, или в науке, чтобы сделать конкретное открытие, и многое другое о других способах содействия развитию предмета «.
Между тем, когда дело доходит до опубликованных результатов, многие из наших респондентов хотели, чтобы больше журналов уделяли больше внимания строгим методам и процессам, а не блестящим результатам.
«Наука — это деятельность человека, и поэтому она подвержена тем же предубеждениям, которые поражают почти все сферы принятия человеческих решений».
— Джей Ван Бавель, профессор психологии Нью-Йоркского университета
«Я думаю, что единственное, что окажет наибольшее влияние, — это устранение предвзятости публикации: оценка статей по качеству вопросов, качеству метода и обоснованности анализа, но не по о самих результатах », — пишет Майкл Инзлихт, профессор психологии и нейробиологии Университета Торонто.
Некоторые журналы уже проводят подобные исследования. PLOS One , например, принимает к публикации отрицательные исследования (в которых ученый проводит тщательный эксперимент и ничего не находит), как и метко названный Journal of Negative Results in Biomedicine .
Больше прозрачности также могло бы помочь, пишет Дэниел Саймонс, профессор психологии из Университета Иллинойса. Вот один пример: ClinicalTrials.gov, сайт, управляемый Национальным институтом здравоохранения, позволяет исследователям заранее регистрировать дизайн и методы исследования, а затем публично фиксировать их прогресс. Из-за этого ученым сложнее скрыть эксперименты, которые не дали желаемых результатов. (Сейчас на сайте содержится информация о более чем 180 000 исследований в 180 странах.)
Точно так же кампания AllTrials требует, чтобы все клинические испытания (прошлые, настоящие и будущие) по всему миру были зарегистрированы с полным отчетом о методах и результатах.Некоторые фармацевтические компании и университеты создали порталы, которые позволяют исследователям получать доступ к необработанным данным своих испытаний.
Ключ к тому, чтобы такая прозрачность стала нормой, а не похвальным отклонением.
Воспроизведение результатов имеет решающее значение. Но ученые редко это делают.
Репликация — еще одно основополагающее понятие в науке. Исследователи берут более раннее исследование, которое они хотят протестировать, а затем пытаются воспроизвести его, чтобы проверить, верны ли результаты.
Тестирование, проверка, повторное тестирование — все это часть медленного и упорного процесса достижения некоторого подобия научной истины. Но это происходит не так часто, как следовало бы, отметили наши респонденты. У ученых мало стимулов для участия в утомительной репликации. И даже когда они пытаются повторить исследование, они часто обнаруживают, что не могут этого сделать. Все чаще это называют «кризисом невоспроизводимости».
Статистические данные подтверждают это: в исследовании 2015 года было проанализировано 83 высоко цитируемых исследования, в которых утверждалось, что используются эффективные психиатрические методы лечения.Только 16 из них были успешно воспроизведены. Еще 16 были опровергнуты последующими попытками, и 11 было обнаружено, что во второй раз эффект был значительно меньше. Между тем, почти половина исследований (40) вообще никогда не повторялась.
Совсем недавно знаменательное исследование, опубликованное в журнале Science , показало, что только часть недавних открытий в ведущих психологических журналах может быть воспроизведена. Это происходит и в других областях, — говорит Иван Оранский, один из основателей блога Retraction Watch, который отслеживает научные опровержения.
Что касается первопричин, то респонденты нашего опроса указали на несколько проблем. Во-первых, у ученых очень мало стимулов даже попытаться воспроизвести . Джон-Патрик Аллем, социолог из Медицинской школы им. Кека при Университете Южной Калифорнии, отметил, что финансирующие агентства предпочитают поддерживать проекты, которые находят новую информацию, а не подтверждают старые результаты.
Журналы также неохотно публикуют исследования репликации, если «они не противоречат более ранним выводам или заключениям», — пишет Аллем. Результат — отговорить ученых от проверки работы друг друга. «Новая информация важнее более убедительных доказательств, которые задают параметры для работающих ученых».
Вторая проблема заключается в том, что многие исследования трудно воспроизвести. Иногда их методы слишком непрозрачны. Иногда в первоначальных исследованиях было слишком мало участников, чтобы дать воспроизводимый ответ. А иногда, как мы видели в предыдущем разделе, исследование просто плохо спланировано или совершенно неверно.
Опять же, это связано со стимулами: когда исследователям приходится часто публиковать публикации и преследовать положительные результаты, остается меньше времени для проведения качественных исследований с использованием четко сформулированных методов.
Исправления недорепликации
Ученым нужно больше моркови, чтобы в первую очередь побудить их заняться репликацией. В нынешнем виде исследователям рекомендуется публиковать новые положительные результаты и позволять отрицательным результатам оставаться в их ноутбуках или ящиках с файлами.
Это преследует науку проблемой, называемой «предвзятость публикации» — не все проводимые исследования на самом деле публикуются в журналах, а те, которые действительно имеют тенденцию давать положительные и драматические выводы.
Если учреждения начнут вознаграждать должности или нанимать сотрудников на основе качества работы исследователя, а не количества, это могло бы способствовать большему тиражированию и препятствовать погоне за положительными результатами.
«Ключ, который необходимо изменить, — это анализ производительности», — пишет Кристофер Виндер, бывший доцент Университета Макмастера. «Это влияет на воспроизводимость, потому что мало смысла подтверждать результаты другой лаборатории и пытаться опубликовать результаты.«
«Исследования тиражирования следует как-то стимулировать, а журналы следует стимулировать к публикации« отрицательных »исследований. Важны все результаты, а не только яркие, меняющие парадигму результаты».
—Стефани Турмонд, аспирант биологии, Калифорнийский университет в Риверсайде
Следующим шагом будет облегчение тиражирования исследований. Это могло бы включать более надежный обмен методами в опубликованных исследовательских статьях. «Было бы здорово иметь более строгие нормы о более подробном описании методов», — говорит Брайан Носек из Университета Вирджинии.
Он также посоветовал более регулярно добавлять дополнения в конце статей, которые углубляются в процедурные подробности, чтобы помочь любому, кто хочет повторить эксперимент. «Если я смогу быстро набрать скорость, у меня будет гораздо больше шансов приблизиться к результатам», — сказал он.
Носек подробно рассказал о других возможных исправлениях, которые могут помочь с репликацией — все это часть его работы в Центре открытой науки.
По словам Джона Иоаннидиса из Стэнфорда, большая степень прозрачности и совместное использование данных сделают возможным тиражирование.Слишком часто любой, кто пытается воспроизвести исследование, должен искать у первоначальных исследователей подробности о том, как проводился эксперимент.
«Лучше делать это организованно с участием всех ведущих исследователей в научной дисциплине, — пояснил он, — чем пытаться найти следователя в каждом случае и спрашивать его или ее в детективе». работать с деталями, данными и методами, которые в противном случае недоступны «.
Исследователи также могут использовать новые инструменты, такие как программное обеспечение с открытым исходным кодом, которое отслеживает каждую версию набора данных, чтобы им было проще делиться своими данными и иметь прозрачность, встроенную в их рабочий процесс.
Некоторые из наших респондентов предложили ученым провести репликацию до публикации . «Прежде чем вы изложите исследовательскую идею в литературе и попросите людей прочитать ее, вы должны попытаться воспроизвести свои собственные открытия», — говорит Джон Сакалук, социальный психолог из Университета Виктории. .
Например, утверждает он, психологи могут проводить небольшие эксперименты с небольшим количеством участников, чтобы сформировать идеи и выдвинуть гипотезы.Но затем им нужно будет провести более масштабные эксперименты с большим количеством участников, чтобы воспроизвести и подтвердить эти гипотезы, прежде чем выпустить их в мир. «Поступая так, — говорит Сакалук, — остальные из нас могут иметь больше уверенности в том, что это то, что мы, возможно, захотим [включить] в наши собственные исследования».
Аннет Элизабет АлленРецензирование предназначено для того, чтобы отсеять ненужную науку до того, как она дойдет до публикации.Тем не менее, в нашем опросе респонденты снова и снова говорили нам, что этот процесс терпит неудачу. Это была одна из частей научного механизма, вызывающая наибольший гнев среди исследователей, от которых мы слышали.
Обычно рецензирование работает следующим образом: исследователь отправляет статью для публикации в журнале. Если журнал принимает статью для рецензирования, она отправляется коллегам в той же области для конструктивной критики и возможной публикации — или отклонения. (Уровень анонимности варьируется; некоторые журналы проводят двойное слепое рецензирование, в то время как другие перешли на тройное слепое рецензирование, когда авторы, редакторы и рецензенты не знают друг друга.)
Звучит как разумная система. Но многочисленные исследования и систематические обзоры показали, что рецензирование не может надежно предотвратить публикацию некачественной науки.
«Я думаю, что рецензирование, как и демократия, плохо, но лучше всего остального».
— Тимоти Бейтс, профессор психологии, Эдинбургский университет
В процессе часто не удается обнаружить подделку или другие проблемы с рукописями, что не так уж удивительно, если учесть, что исследователям не платят и не получают иного вознаграждения за время, которое они проводят на рецензировании. рукописи.Они делают это из чувства долга — вносить свой вклад в свою область исследований и способствовать развитию науки.
Но это означает, что не всегда легко найти лучших людей для рецензирования рукописей в своей области, что измученные исследователи откладывают выполнение работы (что приводит к задержкам публикации до двух лет), и что когда они, наконец, садятся за рецензируйте статью, которую они могут поторопить, и пропустите ошибки в исследованиях.
«Проблема в том, что большинство рецензентов просто недостаточно внимательно рассматривают статьи, что приводит к публикации неверных статей, статей с пробелами и просто нечитаемых статей», — говорит Джоэл Фиш, доцент математики Массачусетского университета. Бостон.«Это в конечном итоге становится большой проблемой для молодых исследователей, которые начинают работать в этой области, поскольку это означает, что им приходится расспрашивать окружающих, чтобы выяснить, какие статьи надежны, а какие нет».
«Наука подвижна; публикация — нет. Чтобы исследования попали в печать, требуется вечность, мало пользы от попыток [воспроизвести] исследования или опубликовать незначительные результаты, а доступ к исследованиям обходится дорого».
—Аманда Каскенетт, биолог по водным наукам, Отдел рыболовства и океанов Канады
Это не говоря уже о проблеме издевательств со стороны коллег.Поскольку по умолчанию в процессе редакторы и рецензенты знают авторов (но авторы не знают, кем являются рецензии), могут закрасться предубеждения против исследователей или организаций, открывая возможность для грубых, поспешных и других бесполезных Комментарии. (Просто проверьте популярный хэштег #SixWordPeerReview в Twitter).
Эти вопросы не остались незамеченными для респондентов нашего опроса, которые заявили, что рецензирование — это сломанная система, которая наказывает ученых и снижает качество публикаций.Они хотят не только пересмотреть процесс рецензирования, но и изменить его концептуальное представление.
Исправления для экспертной оценки
По вопросу о редакционной предвзятости и прозрачности наши респонденты на удивление разделились. Некоторые из них предложили всем журналам перейти к двойному слепому рецензированию, при котором рецензенты не могут видеть имена или аффилированность людей, которых они рецензируют, а авторы публикаций не знают, кто их рецензировал. Основная цель здесь заключалась в снижении предвзятости.
«Мы знаем, что ученые принимают необъективные решения, основываясь на бессознательных стереотипах», — пишет постдок Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории Тимоти Дуиньян. «Таким образом, вместо того, чтобы судить о статье по полу, этнической принадлежности, стране или институциональному статусу автора — что, я считаю, в настоящее время случается довольно часто, — ее следует оценивать по ее качеству, независимо от этих факторов».
Третьи думали, что ответом на было больше прозрачности , а не меньше: «Хотя мы правильно выступаем за наивысший уровень прозрачности в публикации, у нас все еще есть большинство слепых обзоров, и я не могу знать, кто меня проверяет, — пишет Ламберто Манцоли, профессор эпидемиологии и общественного здравоохранения Университета Кьети в Италии.«Слишком часто мы видим обзоры очень низкого качества и не можем понять, является ли это проблемой недостатка знаний или конфликта интересов».
«Нам необходимо признать академические журналы такими, какие они есть: витрины для неполных описаний исследований, которые делают полупроизвольные редакционные [суждения] о том, что публиковать, и часто имеют вредоносные политики, ограничивающие доступ к важной критической оценке результатов после публикации. опубликованное исследование «.
—Бен Голдакр, исследователь-эпидемиолог, врач и автор
Возможно, есть золотая середина.Например, eLife , новый журнал с открытым доступом, импакт-фактор которого быстро растет, запускает процесс совместной экспертной оценки. Редакторы и рецензенты работают вместе над каждым представлением, чтобы создать сводный список комментариев к статье. Затем автор может ответить на то, что группа считает наиболее важными проблемами, вместо того, чтобы сталкиваться с предубеждениями и прихотями отдельных рецензентов. (Как ни странно, этот процесс происходит быстрее — eLife занимает меньше времени на прием документов, чем Nature или Cell.)
Тем не менее, это в основном инкрементальные исправления. Другие респонденты утверждали, что нам, возможно, придется радикально переосмыслить весь процесс экспертной оценки с нуля.
«Текущий процесс рецензирования подразумевает окончательную версию статьи», — говорит Носек. «Процесс обзора — это [форма] сертификации, и документ готов». Но наука так не работает. Наука — это развивающийся процесс, а истина временна. Итак, сказал Носек, наука должна «отойти от объятий определенности публикации».«
Некоторые респонденты хотели думать о рецензировании как о более непрерывном процессе, в котором исследования постоянно и прозрачно обновляются и переиздаются по мере того, как новые отзывы меняют их — так же, как статьи в Википедии. Для этого потребуется какой-то экспертный краудсорсинг.
«Область научных публикаций — особенно в области биологических наук — действует так, как будто нет Интернета», — говорит Лакшми Джаяшанкар, старший научный обозреватель федерального правительства. «Рецензирование бумаги длится вечно, и это вредит ученым, которые пытаются быстро сделать свои результаты достоянием общественности.«
Одна из возможных моделей уже существует в математике и физике, где существует давняя традиция «предпечатных» статей. Исследования публикуются на открытом веб-сайте arXiv.org, часто перед рецензированием и публикацией в журналах. Там статьи сортируются и комментируются сообществом модераторов, что дает еще один шанс отфильтровать проблемы, прежде чем они попадут на экспертную оценку.
«Размещение препринтов позволит научному краудсорсингу увеличить количество обнаруживаемых ошибок, поскольку от традиционных рецензентов нельзя ожидать, что они будут экспертами в каждой дисциплине», — пишет Скотт Хартман, аспирант палеобиологии из Университета Висконсина.
И даже после публикации статьи исследователи считают, что процесс рецензирования не должен останавливаться. Они хотят видеть больше рецензий «после публикации» в сети, чтобы ученые могли критиковать и комментировать статьи после того, как они были опубликованы. Такие сайты, как PubPeer и F1000Research, уже появились, чтобы обеспечить такую обратную связь после публикации.
«Мы делаем это пару раз в год на конференциях», — пишет Бекки Кларксон, исследователь гериатрической медицины из Университета Питтсбурга.«Мы могли бы делать это каждый день в Интернете».
Суть в том, что традиционная экспертная оценка никогда не работала так хорошо, как мы себе представляем, и она созрела для серьезных сбоев.
Аннетт Элизабет Аллен для Vox(5)
Слишком много науки скрыто за платным доступом
После того, как исследование было профинансировано, проведено и рецензировано, остается вопрос о том, чтобы опубликовать его, чтобы другие могли прочитать и понять его результаты.
Наши респонденты неоднократно выражали недовольство тем, как распространяются научные исследования. По их словам, слишком многое заперто в платных журналах, доступ к которым затруднен и требует больших затрат. Некоторые респонденты также критиковали сам процесс публикации за то, что он слишком медленный, замедляющий темпы исследований.
По вопросу о доступе ряд ученых утверждали, что научные исследования должны быть свободны для чтения. Их возмутила нынешняя модель, согласно которой коммерческие издатели размещают журналы за дорогостоящую систему платного доступа.
Одна статья в Science обойдется вам в 30 долларов; Годовая подписка на Cell будет стоить 279 долларов. Elsevier издает 2000 журналов, подписка на которые может стоить от 10 000 до 20 000 долларов в год.
«Моя проблема — это проблема многих ученых: слишком упрощенно считать чьи-то статьи мерой их ценности».
—Лекс Кравиц, исследователь, нейробиология ожирения, Национальный институт здоровья
Многие учреждения США платят за эти журналы своим сотрудникам, но не всем ученым (или другим любопытным читателям) так повезло.В недавнем выпуске журнала Science журналист Джон Боханнон описал тяжелое положение кандидата наук в ведущем университете Ирана. Он подсчитал, что студенту придется тратить 1000 долларов в неделю только на то, чтобы прочитать нужные ему работы.
Как сказал Майкл Эйзен, биолог из Калифорнийского университета в Беркли и соучредитель Публичной научной библиотеки (или PLOS ) , , научные журналы пытаются удержать прибыль эпохи печати в век интернета.Цены на подписку продолжали расти, поскольку горстка крупных издателей (например, Elsevier) скупала все больше и больше журналов, создавая небольшие вотчины знаний.
«Крупные государственные издательские компании получают огромные прибыли от ученых, публикуя наши научные данные, а затем продавая их обратно университетским библиотекам с огромной прибылью (что в первую очередь приносит пользу акционерам)», — говорит Корина Логан, исследователь поведения животных из Университета Кембридж, отметил. «Это не в интересах общества, ученых, общественности или исследований.»(В 2014 году компания Elsevier сообщила, что норма прибыли составила почти 40 процентов, а выручка — около 3 миллиардов долларов).
«Мне кажется неправильным, что налогоплательщики платят за исследования в государственных лабораториях и университетах, но обычно не имеют доступа к результатам этих исследований, поскольку они находятся за пределами платного доступа рецензируемых журналов», — добавила Мелинда Саймон, постдокторский исследователь микрофлюидики. в Национальной лаборатории Лоуренса Ливермора.
Исправления для закрытой науки
Многие из наших респондентов призвали своих коллег публиковать публикации в журналах с открытым доступом (например, PeerJ или PLOS Biology ).Но здесь есть внутреннее напряжение. Карьерный рост часто может зависеть от публикаций в самых престижных журналах, таких как Science или Nature , которые по-прежнему имеют платный доступ.
Также возникает вопрос, как лучше всего профинансировать массовый переход к открытому доступу. В конце концов, журналы никогда не могут быть полностью бесплатными. Кто-то должен платить за редакцию, содержание сайта и так далее. Прямо сейчас журналы с открытым доступом обычно взимают плату с тех, кто подает статьи, что ложится бременем на ученых, которые уже борются за финансирование.
Одним из радикальных шагов было бы полное упразднение коммерческих издателей и переход к некоммерческой модели. «Что касается журналов, я мог бы представить, что научные ассоциации сами управляют ими», — предположил Йоханнес Брейер, исследователь психологии СМИ из Кельнского университета, получивший докторскую степень. «Если они будут использовать только онлайн, расходы на веб-хостинг, редактирование и рекламу (при необходимости) можно будет легко оплатить за счет членских взносов».
В качестве модели Тим Гауэрс из Кембриджа запустил математический онлайн-журнал под названием Discrete Analysis . Некоммерческое предприятие принадлежит и публикуется группой ученых, у него нет посредников-издателей, и доступ будет полностью бесплатным для всех.
«Лично я трачу много времени на написание научных статей в Википедии, потому что считаю, что это продвигает дело науки намного больше, чем мои профессиональные академические статьи».
—Тед Сандерс, аспирант по магнитным материалам, Стэнфордский университет
Однако до тех пор, пока не произойдет массовая реформа, многие ученые будут идти гораздо более простым путем: незаконно воровать статьи.
Боханнон сообщил, что миллионы исследователей во всем мире теперь используют Sci-Hub, сайт, созданный Александрой Элбакян, российским нейробиологом, на котором незаконно размещено более 50 миллионов научных статей. «Как набожный пират, — сказал нам Элбакян, — я считаю, что авторские права должны быть отменены».
Один респондент выдвинул еще более радикальное предложение: полностью отменить существующую систему рецензируемых журналов и просто публиковать все в Интернете, как только это будет сделано.
«Исследования должны быть доступны в Интернете немедленно и оцениваться коллегами в Интернете, а не проходить через все форматирование, отправку, проверку, переписывание, переформатирование, повторную отправку и т. Д. И т. Д., Что может занять годы», — пишет Бруно Дагнино, ранее Нидерландского института нейробиологии. «Один формат, одна платформа. Судите всем сообществом, без задержек».
Несколько ученых предпринимают шаги в этом направлении. Рэйчел Хардинг, генетический исследователь из Университета Торонто, создала веб-сайт под названием Lab Scribbles, где она публикует свои лабораторные заметки о структуре белков хантингтина в режиме реального времени, публикуя данные, а также резюме своих достижений и неудач.Идея состоит в том, чтобы помочь поделиться информацией с другими исследователями, работающими над аналогичными проблемами, чтобы лаборатории могли избежать ненужного дублирования и учиться на ошибках друг друга.
Не все могут согласиться с таким радикальным подходом; критики обеспокоены тем, что слишком частое распространение информации может способствовать научному безбедству. Тем не менее, общей темой нашего исследования была прозрачность. Наука в настоящее время слишком непрозрачна, исследованиями трудно делиться. Это нужно изменить.
(6)
Наука плохо доводится до общественности.
«Если бы я мог что-то изменить в науке, я бы изменил способ ее сообщения общественности учеными, журналистами и знаменитостями», — пишет Клэр Мэлоун, научный сотрудник лаборатории генетики рака в Бригаме и женской больнице. .
Она была не одна. Немало респондентов в нашем опросе выразили разочарование по поводу того, как наука доводится до сведения общественности. Они были огорчены тем фактом, что так много обывателей придерживаются совершенно ненаучных идей или имеют грубое представление о том, как работает наука.
Они заметили, что дезинформированные знаменитости, такие как Гвинет Пэлтроу, имеют огромное влияние на общественное мнение о здоровье и питании. (Как однажды сказал нам Тимоти Колфилд из Университета Альберты: «Невероятно, насколько она ошибается.»)
Они правы. Научная журналистика часто полна преувеличенных, противоречивых или откровенно вводящих в заблуждение утверждений. Если вы когда-нибудь захотите увидеть прекрасный пример этого, зайдите на сайт «Kill or Cure», где Пол Батли тщательно документирует все случаи, когда Daily Mail сообщала, что различные продукты — от антацидов до йогурта — вызывают рак, предотвращают рак и т. Д. а иногда и то и другое.
«Слишком часто на этой планете меньше 10 человек, которые могут полностью понять исследование одного ученого.
— Майкл Бурел, аспирант, биология стволовых клеток, Медицинский факультет Нью-Йоркского университета
Иногда плохие истории распространяются в магазинах университетской прессы. В 2015 году Университет Мэриленда выпустил пресс-релиз, в котором утверждалось, что единственная марка шоколадного молока может улучшить восстановление после сотрясения мозга. Это был абсурдный случай научной шумихи.
Действительно, один обзор в BMJ показал, что одна треть университетских пресс-релизов содержала либо преувеличенные утверждения о причинно-следственной связи (когда само исследование только предлагало корреляцию), либо необоснованные выводы об исследованиях на животных для людей, либо необоснованные рекомендации по здоровью.
Но не все обвиняли только СМИ и публицистов. Другие респонденты указали, что сами ученые часто переоценивают свою работу, даже если она предварительная, потому что финансирование конкурентное, и каждый хочет изобразить свою работу как большую, важную и меняющую правила игры.
«У вас есть эта токсичная динамика, когда журналисты и ученые взаимодействуют друг с другом таким образом, что значительно повышается достоверность и универсальность того, как сообщаются научные открытия и обещания, которые даются общественности», — пишет Дэниел Молден, доцент психологии. в Северо-Западном университете.«Когда эти результаты оказываются менее уверенными, а обещания не выполняются, это еще больше подрывает уважение, которое получают ученые, и еще больше подогревает их желание признательности».
Исправления для улучшения научного общения
Мнения по поводу того, как исправить это плачевное положение дел, разошлись — одни указывали на средства массовой информации, другие — на пресс-службы, третьи — на самих ученых.
Многие наши респонденты хотели бы, чтобы больше научных журналистов отказались от раздувания отдельных исследований.Вместо этого, по их словам, репортеры должны помещать новые результаты исследований в контекст и уделять больше внимания строгости методологии исследования, чем красочности конечных результатов.
«По данному предмету часто проводятся десятки исследований, посвященных этому вопросу», — пишет Брайан Стейси из Министерства сельского хозяйства США. «Очень редко одно исследование может окончательно разрешить важный исследовательский вопрос, но во многих случаях результаты исследования сообщаются так, как если бы они были».
«На мой взгляд, возможность объяснить свою работу ненаучной аудитории так же важна, как и публикация в рецензируемом журнале, но в настоящее время в структуре стимулов нет места для вовлечения публики.
—Кристал Стелтенпол, аспирант, общественная психология, Университет ДеПола
Но формироваться нужно не только репортерам. «Ядовитая динамика» журналистов, академических пресс-служб и ученых, позволяющих друг другу рекламировать исследования может быть сложно изменить, и многие из наших респондентов отметили, что простых решений не существует, хотя признание было важным первым шагом.
Некоторые предлагали создать авторитетных рецензентов, которые могли бы точно выделить сильные и слабые стороны исследования.(Некоторые варианты этого начинают появляться: Служба новостей генетических экспертов просит внешних экспертов взвесить новые крупные исследования в области генетики и биотехнологии.) Другие респонденты предположили, что предоставление всеобщего доступа к исследованиям может помочь уменьшить искажение информации в СМИ.
Другие респонденты отметили, что сами ученые должны уделять больше времени изучению того, как общаться с общественностью — навык, который, как правило, недооценивается в нынешней системе.
«Я считаю, что возможность объяснить свою работу ненаучной аудитории так же важна, как и публикация в рецензируемом журнале, но в настоящее время в структуре стимулов нет места для привлечения публики», — пишет Кристал Стелтенпол, аспирант Университета ДеПола.
Уменьшение извращенных стимулов вокруг самих научных исследований также может помочь уменьшить чрезмерную ажиотаж. «Если мы вознаграждаем исследования, основанные на том, насколько заслуживают внимания результаты, это создаст давление с целью преувеличить результаты (за счет использования гибкости в анализе данных, искажения результатов или прямого мошенничества)», — пишет Симин Вазир из UC Davis. «Мы должны вознаграждать исследования, основанные на строгих методах и дизайне».
Или, возможно, нам следует сосредоточиться на повышении научной грамотности.Джереми Джонсон, координатор проекта в Институте Броуда, утверждал, что развитие естественнонаучного образования может помочь решить многие из этих проблем. «Научная грамотность должна быть главным приоритетом нашей образовательной политики, — сказал он, — а не факультативом».
(7)
Жизнь молодого ученого невероятно напряжена.
Когда мы спрашивали исследователей, что они хотели бы исправить в науке, многие говорили о самом научном процессе, о дизайне исследования или экспертной оценке.Эти ответы часто исходили от штатных ученых, которые любили свою работу, но хотели сделать более широкий научный проект еще лучше.
Но, с другой стороны, мы слышали от ряда исследователей — многие из них аспиранты или постдоки — которые были искренне увлечены исследованиями, но считали повседневный опыт ученого изнурительным и неблагодарным. Их комментарии заслуживают отдельного раздела.
Сегодня многие штатные ученые и исследовательские лаборатории зависят от небольших армий аспирантов и докторантов для проведения своих экспериментов и анализа данных.
Эти аспиранты и постдоки часто являются основными авторами многих исследований. В ряде областей, таких как биомедицинские науки, должность постдока является предварительным условием, прежде чем исследователь сможет получить должность преподавателя в университете.
Вся эта система лежит в основе современной науки. (Новая карточная игра под названием Lab Wars высмеивает эту динамику.)
Но эти низкоуровневые исследовательские работы могут быть утомительны. Постдоки обычно работают сверхурочно и получают относительно низкую заработную плату в соответствии с их уровнем образования — зарплаты часто привязаны к стипендиям, установленным грантами Национальной исследовательской службы NIH, которые начинаются с 43 692 долларов и увеличиваются до 47 268 долларов в третий год.
Postdocs, как правило, нанимаются на срок от одного до трех лет, и во многих учреждениях они считаются подрядчиками, что ограничивает их защиту на рабочем месте. Мы неоднократно слышали об очень долгих часах работы и ограниченных семейных отпусках.
«Закройте докторскую степень или коренным образом измените ее. Среди аспирантов высокий уровень депрессии. Этой эмоции способствуют долгие часы работы, ограниченные перспективы карьерного роста и низкая заработная плата».
—Дон Гибсон, аспирант генетики растений, Калифорнийский университет в Дэвисе
«Часто это проблематично для людей в возрасте от 20 до 30 лет, которые имеют докторскую степень и могут создавать семьи, одновременно выполняя тяжелую и малооплачиваемую работу. , «написал один постдок, пожелавший остаться неназванным.
Отсутствие гибкости, как правило, непропорционально сказывается на женщинах, особенно на женщинах, планирующих иметь семьи, что способствует гендерному неравенству в исследованиях. (В документе 2012 года было обнаружено, что кандидаты на вакансии женщин в академических кругах оцениваются более строго и им предлагают меньше денег, чем мужчинам.) «Женщины-ученые и ученые, начинающие свою карьеру, очень мало поддерживают», — отметил другой постдок.
«В сегодняшних условиях очень мало долгосрочной финансовой безопасности, очень мало уверенности в том, откуда будет получена следующая зарплата», — написал Уильям Кенкель, постдокторант по нейроэндокринологии из Университета Индианы.«После получения докторской степени в 2012 году я уехал из Чикаго и переехал в Бостон на должность постдока, затем в 2015 году я уехал из Бостона на второй постдоктор в Индиане. Через год или два я снова перееду на преподавательскую работу. , и это, если мне повезет. Представьте, что вы пытаетесь построить такую жизнь ».
Этот штамм также может отрицательно повлиять на исследования, которые проводят молодые ученые. «Контракты слишком короткие», — отметил другой исследователь. «Это препятствует тщательному исследованию, поскольку трудно получить достаточно результатов для статьи (и, следовательно, прогресса) за два-три года.Постоянный стресс также вытесняет талантливых и умных людей из науки ».
Поскольку университеты выпускают так много докторов наук, но имеют гораздо меньше преподавательских должностей, многие из этих исследователей-постдоков имеют ограниченные перспективы карьерного роста. Некоторые из них в конечном итоге остаются на должностях постдока на пять, десять и более лет.
«В биомедицинских науках, — писал первый постдок, процитированный выше, — на каждую доступную должность преподавателя поступают заявки от сотен или тысяч соискателей, что оказывает огромное давление на постдоков, чтобы они публиковались часто и в высокоэффективных журналах, чтобы быть достаточно конкурентоспособными для достижения этих позиций. .«
Многие молодые исследователи отмечали, что программы докторантуры мало что делают для подготовки людей к карьере вне академических кругов. «Слишком много [PhD] студентов заканчивают обучение на ограниченное количество профессоров с минимальной подготовкой для карьеры вне академических исследований», — отметил Дон Гибсон, кандидат наук, изучающий генетику растений в Калифорнийском университете в Дэвисе.
Лаура Вайнгартнер, аспирант по эволюционной экологии в Университете Индианы, согласилась: «Немногие университеты (в частности, консультанты факультетов) знают, как обучать студентов чему-либо, кроме академических кругов, что оставляет многих студентов безнадежными, когда неизбежно отсутствуют рабочие места в сфере образования. академия для них.«
Сложите это, и неудивительно, что мы слышали множество комментариев о тревоге и депрессии как среди аспирантов, так и среди докторов наук. «Среди аспирантов высокий уровень депрессии, — пишет Гибсон. «Этой эмоции способствуют долгие часы работы, ограниченные перспективы карьерного роста и низкая заработная плата».
Исследование, проведенное в 2015 году Калифорнийским университетом в Беркли, показало, что 47 процентов опрошенных докторантов могут считаться депрессивными. Причины этого сложны и не могут быть решены в одночасье.Проведение академических исследований — это уже сложная, вызывающая беспокойство задача, которая обязательно скажется на психическом здоровье.
Но, как недавно выяснила Дженнифер Уокер в Quartz, многие аспиранты также чувствуют себя изолированными и лишенными поддержки, что усугубляет эти проблемы.
Исправления для удержания молодых ученых в науке
Мы услышали много конкретных предложений. Аспирантура могла бы предложить более щедрую политику отпусков по семейным обстоятельствам и услуги по уходу за детьми для аспирантов. Они также могут увеличить количество принимаемых кандидатов-женщин, чтобы уравновесить гендерное неравенство.
Но некоторые респонденты также отметили, что проблемы на рабочем месте для аспирантов и аспирантов неотделимы от некоторых фундаментальных проблем, стоящих перед наукой, которые мы обсуждали ранее. Тот факт, что профессорско-преподавательский состав университетов и исследовательские лаборатории сталкиваются с огромным давлением из-за необходимости публикации, но имеют ограниченное финансирование, делает очень привлекательным использование низкооплачиваемых постдоков.
«У университетов мало стимулов создавать рабочие места для своих выпускников или ограничивать количество выпускаемых докторских диссертаций», — пишет Вайнгартнер.«Молодые исследователи — это высококвалифицированные, но относительно недорогие источники рабочей силы для преподавателей».
«Существует значительная предвзятость в отношении женщин и этнических меньшинств, и слепые эксперименты показали, что удаление имен и институциональной принадлежности может радикально изменить важные решения, которые определяют карьеру ученых».
— Терри МакГлинн, профессор биологии Калифорнийского государственного университета в Домингес-Хиллз
Некоторые респонденты также указали на несоответствие между количеством ежегодно присуждаемых докторов наук и количеством имеющихся академических вакансий.
Недавняя статья Джули Гулд в Nature исследовала ряд идей по обновлению системы PhD. Одна из идей состоит в том, чтобы разделить докторскую степень на две программы: одну для профессиональной карьеры и одну для академической карьеры. Первым лучше обучить и подготовить выпускников для поиска работы вне академических кругов.
Это далеко не полный список. Однако основная идея всех этих предложений заключалась в том, что университеты и исследовательские лаборатории должны лучше поддерживать следующее поколение исследователей.В самом деле, это, возможно, так же важно, как и решение проблем самого научного процесса. В конце концов, молодые ученые по определению являются будущим науки.
Вайнгартнер заключил сентимент, который мы видели слишком часто: «Многие творческие, трудолюбивые и / или недостаточно представленные ученые вытесняются из науки из-за этих проблем. Не каждый студент или университет испытают все эти неудачные опыты, но они довольно распространены.Сейчас очень много молодых, разочарованных учёных, которые собираются бросить исследования.«
Науке необходимо исправить свои самые большие недостатки
Наука не обречена.
Хорошо это или плохо, но все равно работает. Не ищите ничего, кроме новых вакцин для предотвращения лихорадки Эбола, открытия гравитационных волн или новых методов лечения устойчивых заболеваний. И это становится лучше во многих отношениях. Посмотрите на работу мета-исследователей, которые изучают и оценивают исследования — область, которая приобрела известность за последние 20 лет.
Но наука ведется людьми, склонными к ошибкам, и она не прошла человеческую защиту, чтобы защитить от всех наших слабостей.Научная революция началась всего 500 лет назад. Только за последние 100 лет наука стала профессиональной. Еще предстоит выяснить, как лучше всего устранить предубеждения и согласовать стимулы.
С этой целью вот несколько общих предложений:
One: Наука должна признать свою денежную проблему и решить ее. Наука чрезвычайно ценна и заслуживает обильного финансирования. Но способ создания стимулов может исказить исследования.
Прямо сейчас небольшие исследования со смелыми результатами, которые можно быстро развернуть и опубликовать в журналах, вознаграждаются непропорционально.Напротив, существует меньше стимулов для проведения исследований, которые решают важные вопросы с помощью надежно спланированных исследований в течение длительных периодов времени. Решить эту проблему будет непросто, но она лежит в основе многих проблем, рассмотренных выше.
Два: наука должна отмечать неудачи и вознаграждать их. Признание того, что мы можем научиться большему из тупиков в исследованиях и исследованиях, которые потерпели неудачу, облегчило бы цикл «опубликуй или исчезни». Это сделало бы ученых более уверенными в разработке надежных, а не только удобных тестов, в обмене своими данными и объяснении своих неудачных тестов коллегам, а также в использовании этих нулевых результатов в качестве основы для карьеры (вместо того, чтобы гнаться за всеми этими слишком-очень-очень важными результатами). редкие прорывы).
Третье: наука должна быть более прозрачной. Ученым необходимо более полно публиковать методы и результаты и делиться своими необработанными данными способами, которые были бы легко доступны и удобоваримы для тех, кто может захотеть повторно проанализировать или воспроизвести их результаты.
Всегда будут расточительные и посредственные исследования, но, как объясняет в недавней статье из Стэнфорда Иоаннидис, отсутствие прозрачности приводит к лишним тратам и снижает полезность слишком большого количества исследований.
Снова и снова мы также слышали от исследователей, особенно в социальных науках, которые чувствовали, что их когнитивные предубеждения в их собственной работе, вызванные давлением публикаций и продвижения по карьерной лестнице, заставили науку сходить с рельсов.Если бы в процесс было встроено больше защиты от человека и устранения предвзятости — за счет более строгой коллегиальной проверки, более чистого и последовательного финансирования, большей прозрачности и обмена данными — некоторые из этих предубеждений можно было бы смягчить.
Эти исправления потребуют времени, постепенно продвигаясь — так же, как и сам научный процесс. Но успехи, достигнутые людьми до сих пор, используя даже несовершенные научные методы, были немыслимы 500 лет назад.




 Чем выше потребность, тем более специфична она для человека.
Чем выше потребность, тем более специфична она для человека. Потребности высших уровней отличаются меньшей способностью к доминированию и меньшей организационной силой. Если низшие потребности требуют немедленного удовлетворения, мобилизуют все силы организма и вызывают автономные реакции, призванные обеспечить их удовлетворение, то высшие потребности не так настоятельны. Отчаянное, маниакальное стремление к безопасности наблюдается гораздо чаще, чем маниакальное стремление к уважению окружающих. Депривация высших потребностей не вызывает таких отчаянных реакций самозащиты, как депривация низших потребностей. По сравнению с пищей и безопасностью уважение кажется просто роскошью.
Потребности высших уровней отличаются меньшей способностью к доминированию и меньшей организационной силой. Если низшие потребности требуют немедленного удовлетворения, мобилизуют все силы организма и вызывают автономные реакции, призванные обеспечить их удовлетворение, то высшие потребности не так настоятельны. Отчаянное, маниакальное стремление к безопасности наблюдается гораздо чаще, чем маниакальное стремление к уважению окружающих. Депривация высших потребностей не вызывает таких отчаянных реакций самозащиты, как депривация низших потребностей. По сравнению с пищей и безопасностью уважение кажется просто роскошью. Удовлетворение высших потребностей в конечном итоге не только повышает жизнеспособность организма, оно служит его росту и развитию.
Удовлетворение высших потребностей в конечном итоге не только повышает жизнеспособность организма, оно служит его росту и развитию.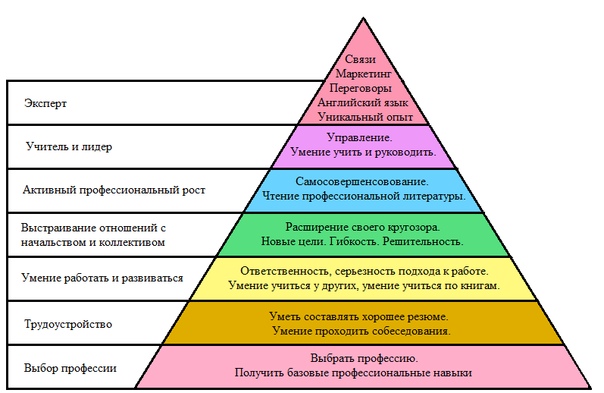
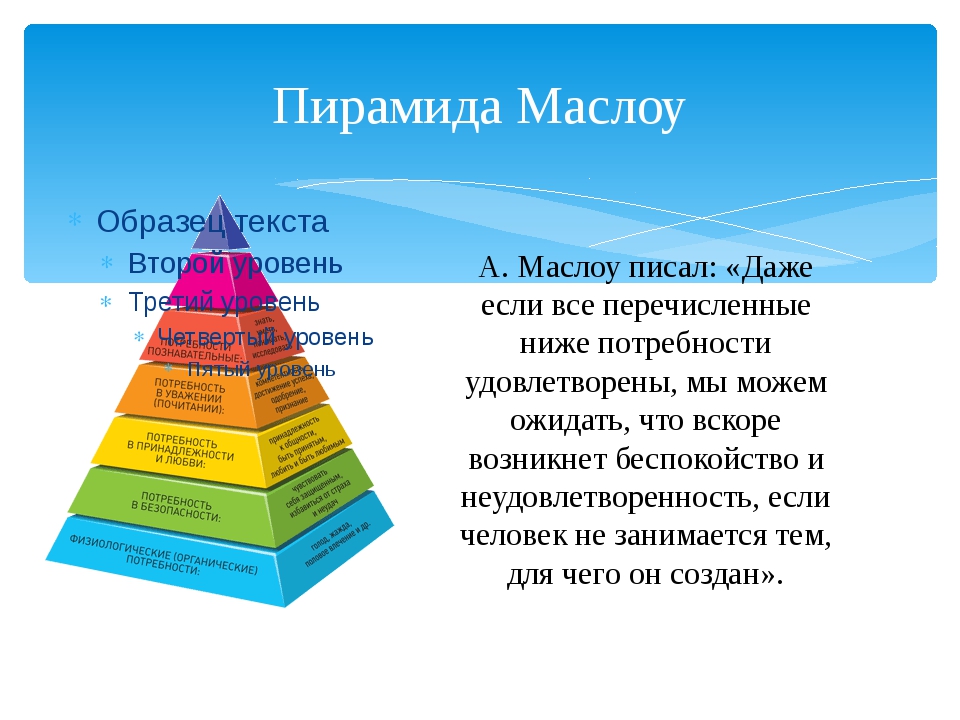




 Культура считает своим долгом уничтожить своего соперника, подавить его, превращаясь, таким образом, в деспота, фрустратора или, в лучшем случае, обретает черты суровой необходимости. Много пользы нам принесло бы осознание того факта, что высшие стремления и позывы есть частью биологической природы человека, столь же неотъемлемой, как потребность в пище. На некоторых из позитивных последствий этого осознания я хочу остановиться подробнее.
Культура считает своим долгом уничтожить своего соперника, подавить его, превращаясь, таким образом, в деспота, фрустратора или, в лучшем случае, обретает черты суровой необходимости. Много пользы нам принесло бы осознание того факта, что высшие стремления и позывы есть частью биологической природы человека, столь же неотъемлемой, как потребность в пище. На некоторых из позитивных последствий этого осознания я хочу остановиться подробнее.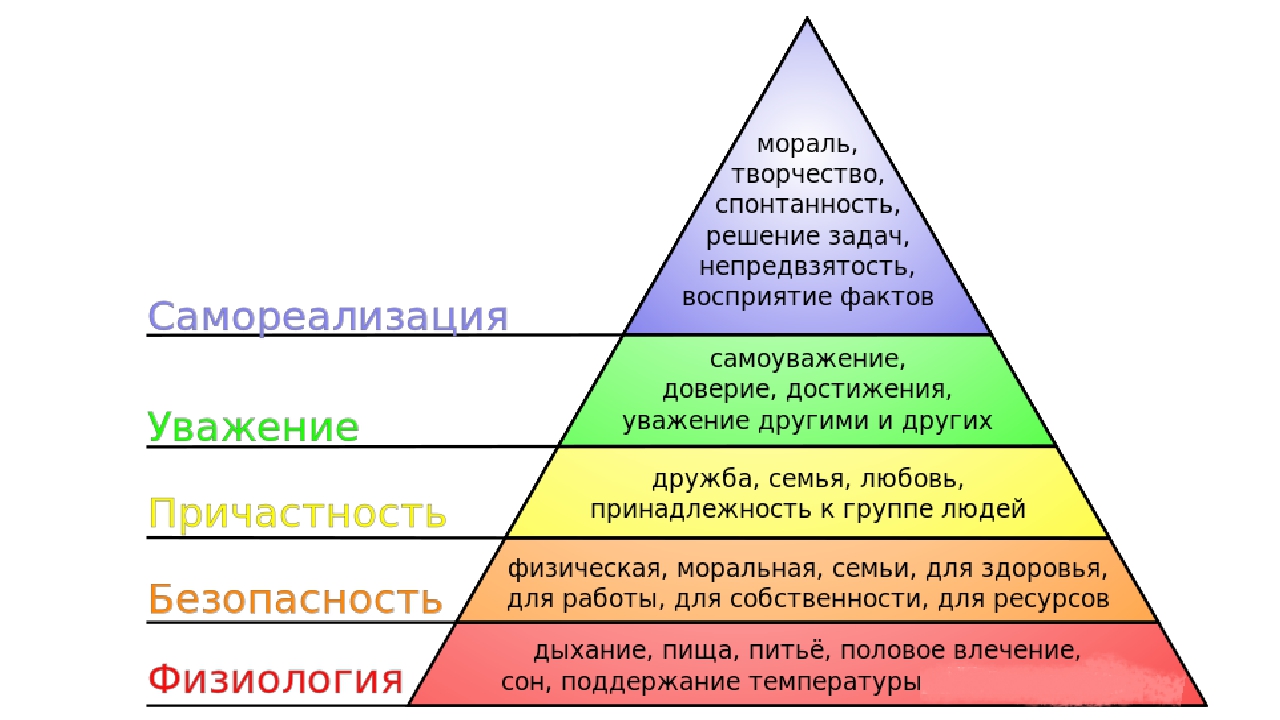 Мы знаем, что они модифицируются под влиянием культуры, по мере накопления опыта взаимодействия с окружающей средой и познания адекватных способов их удовлетворения, и следовательно, мы должны признать, что когнитивные процессы играют важную роль в их развитии. По мнению Джона Дьюи, уже само существование потребности и способность понять её напрямую зависят от способа познания реальности и от способа познания возможности или невозможности её удовлетворения.
Мы знаем, что они модифицируются под влиянием культуры, по мере накопления опыта взаимодействия с окружающей средой и познания адекватных способов их удовлетворения, и следовательно, мы должны признать, что когнитивные процессы играют важную роль в их развитии. По мнению Джона Дьюи, уже само существование потребности и способность понять её напрямую зависят от способа познания реальности и от способа познания возможности или невозможности её удовлетворения.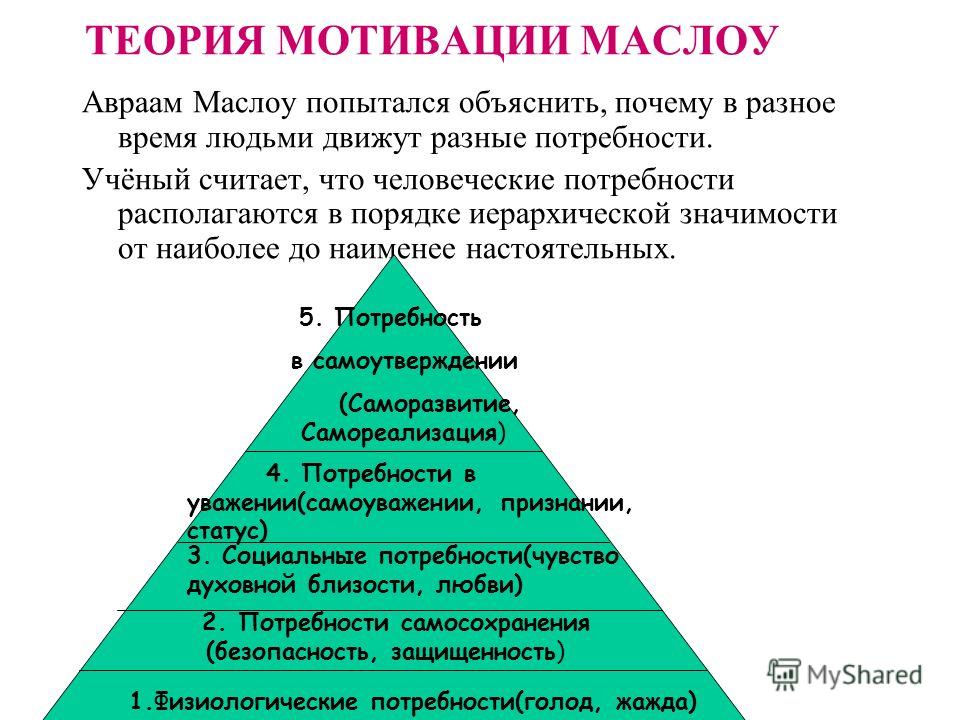 Как, скажите на милость, нам следует определить «эгоизм» и «альтруизм», если сама структура инстинктоидных потребностей человека, таких, например, как потребность в любви, предполагает большее удовольствие, причём удовольствие личное, сугубо «эгоистическое» не тогда, когда мы сами едим арбуз, а тогда, когда видим, с каким наслаждением едят арбуз наши дети? Если потребность в истине так же свойственна животной, биологической натуре человека, как потребность в пище, то можно ли сказать, что человек, рискующий жизнью ради истины, — меньший эгоист, чем тот, кто рискует жизнью, чтобы добыть себе еду?
Как, скажите на милость, нам следует определить «эгоизм» и «альтруизм», если сама структура инстинктоидных потребностей человека, таких, например, как потребность в любви, предполагает большее удовольствие, причём удовольствие личное, сугубо «эгоистическое» не тогда, когда мы сами едим арбуз, а тогда, когда видим, с каким наслаждением едят арбуз наши дети? Если потребность в истине так же свойственна животной, биологической натуре человека, как потребность в пище, то можно ли сказать, что человек, рискующий жизнью ради истины, — меньший эгоист, чем тот, кто рискует жизнью, чтобы добыть себе еду?
 Истоки этих дихотомий лежат все в том же неправомерном противопоставлении низших потребностей потребностям высшим, в стремлении разделять потребности на животные и не животные, анти животные. Мы вынуждены будем пересмотреть и концепцию рациональности-иррациональности, произвести ревизию столь привычного противопоставления рационального начала началу импульсивному и традиционного понимания рациональной жизни как противоположности инстинктивной.
Истоки этих дихотомий лежат все в том же неправомерном противопоставлении низших потребностей потребностям высшим, в стремлении разделять потребности на животные и не животные, анти животные. Мы вынуждены будем пересмотреть и концепцию рациональности-иррациональности, произвести ревизию столь привычного противопоставления рационального начала началу импульсивному и традиционного понимания рациональной жизни как противоположности инстинктивной. Разве сможем мы тогда по-прежнему считать, что истоки высокого и низкого в человеческой природе находятся в разных, противоборствующих вселенных?
Разве сможем мы тогда по-прежнему считать, что истоки высокого и низкого в человеческой природе находятся в разных, противоборствующих вселенных?
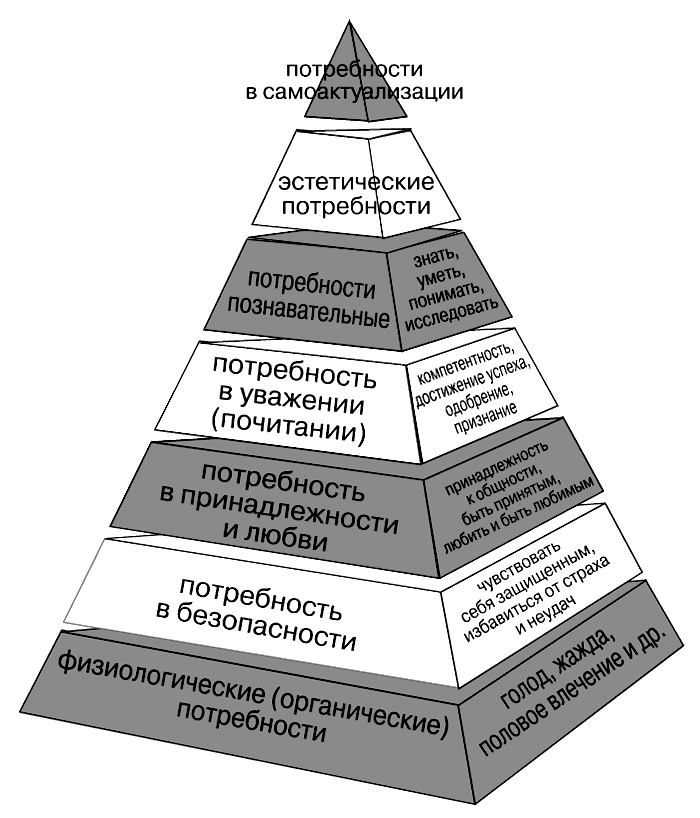 Культура должна стать инструментом базового удовлетворения [314, 315, а не подавления или запрета. Культура не только предназначена для удовлетворения человеческих потребностей, она сама есть продуктом этих потребностей. Мы должны отказаться от традиционной дихотомии «культура-индивидуум», мы уже не вправе настаивать на том, что они противоборствуют друг другу. Настало время обратить внимание на возможность их синергического существования и сотрудничества.
Культура должна стать инструментом базового удовлетворения [314, 315, а не подавления или запрета. Культура не только предназначена для удовлетворения человеческих потребностей, она сама есть продуктом этих потребностей. Мы должны отказаться от традиционной дихотомии «культура-индивидуум», мы уже не вправе настаивать на том, что они противоборствуют друг другу. Настало время обратить внимание на возможность их синергического существования и сотрудничества.
 Организм сам говорит нам о том, что ему нужно, а, значит, и о том, что он ценит, — получив возможность вольно следовать своим идеалам, он крепнет, растёт и процветает, а лишившись такой возможности — заболевает.
Организм сам говорит нам о том, что ему нужно, а, значит, и о том, что он ценит, — получив возможность вольно следовать своим идеалам, он крепнет, растёт и процветает, а лишившись такой возможности — заболевает. Наконец, наши инстинктоидные потребности ни в коем случае не дурны, — они, по меньшей мере, нейтральны, если не хороши. Сколь бы парадоксально это ни звучало, я готов заявить — для того, чтобы наши инстинкты, вернее то, что осталось от них, не были окончательно задавлены средой, нужно защищать их от культуры, образования, научения.
Наконец, наши инстинктоидные потребности ни в коем случае не дурны, — они, по меньшей мере, нейтральны, если не хороши. Сколь бы парадоксально это ни звучало, я готов заявить — для того, чтобы наши инстинкты, вернее то, что осталось от них, не были окончательно задавлены средой, нужно защищать их от культуры, образования, научения. Согласившись с тем, что импульсы, идущие из глубин человеческой природы — хорошие, полезные, что они заслуживают восхищения и поощрения, мы не станем ограничивать их рамками условностей, не станем налагать запреты на их выражение, а наоборот, будем стремиться к тому, чтобы’ найти способ выразить их как можно более ярко и свободно.
Согласившись с тем, что импульсы, идущие из глубин человеческой природы — хорошие, полезные, что они заслуживают восхищения и поощрения, мы не станем ограничивать их рамками условностей, не станем налагать запреты на их выражение, а наоборот, будем стремиться к тому, чтобы’ найти способ выразить их как можно более ярко и свободно. Любой уважающий себя теолог обязательно обращался к проблеме взаимоотношения плоти и духа, ангела и дьявола, то есть высокого и низкого в человеке, но никому из них так и не удалось примирить противоречия, таившиеся в этой проблеме. Теперь, опираясь на тезис о функциональной автономии высших потребностей, мы можем предложить свой ответ на этот вопрос. Высокое возникает и проявляется только на базе низкого, но возникнув и утвердившись в сознании человека, оно может стать относительно независимым от его низкшей природы [5.
Любой уважающий себя теолог обязательно обращался к проблеме взаимоотношения плоти и духа, ангела и дьявола, то есть высокого и низкого в человеке, но никому из них так и не удалось примирить противоречия, таившиеся в этой проблеме. Теперь, опираясь на тезис о функциональной автономии высших потребностей, мы можем предложить свой ответ на этот вопрос. Высокое возникает и проявляется только на базе низкого, но возникнув и утвердившись в сознании человека, оно может стать относительно независимым от его низкшей природы [5.