Генезис в психологии это: Генезис. Определение.
СУЩНОСТЬ И ГЕНЕЗИС ПСИХИКИ – В помощь студентам БНТУ – курсовые, рефераты, лабораторные !
Раздел 2: СУЩНОСТЬ И ГЕНЕЗИС ПСИХИКИ.1. Понятие о психике. Развитие психики в процессе эволюции животного мира.
Психика человека представляет собой результат эволюционного развития. В общем смысле психика – функция особым образом организованной материи, нервной ткани. По мере усложнения нервной системы усложняется и ее функция – происходит постепенное усложнение взаимодействия животного со средой.
В развитии психики выделяют ряд этапов.
Первый этап называется стадией элементарной сенсорной психики («сенсус» – ощущение). Животные, находящиеся на этой стадии, не способны воспринимать мир во всем его многообразии в силу неразвитости нервной системы. Они способны реагировать лишь на отдельные свойства объектов, имеющие для них жизненно важное значение. Так, например, паук из всего многообразия внешних воздействий способен реагировать лишь на вибрацию паутины, что обусловливает и характер его активности. Он активен только тогда, когда улавливает вибрацию.
Он активен только тогда, когда улавливает вибрацию.
Второй этап называется стадией перцептивной психики (перцепция -восприятие). Животные, находящиеся на этой стадии, способны создавать целостный образ воспринимаемых объектов. Также важной характеристикой перцептивной психики является возможность накапливать личный опыт. Деятельность таких животных также усложняется: они уже способны активно добывать пищу, ориентируясь в поисках ее на множество различных сигналов из окружающего мира.
Третий этап называется стадией интеллекта. На этой стадии находятся приматы (человекообразные обезьяны) и, возможно, дельфины. Развитие нервной системы таких животных обеспечивает им возможность установления мысленных связей между различными объектами действительности и, как следствие, приводит к делению деятельности, прежде слитой в один процесс, на две фазы – фазу подготовления (на этой фазе животные изменяют ситуацию, чтобы получить желаемое, а не просто пользуются теми условиями, которые предоставляет им природа) и фазу осуществления (получение желаемого). Например, обезьяна не может достать банан, лежащий перед клеткой, просто вытянув руку. После небольшого замешательства обезьяна вдруг схватила одну из палок, лежащих в клетке, просунула руку с палкой между прутьями и подтянула банан. Отсутствие простого перебора вариантов свидетельствует о том, что обезьяна вначале совершает это действие «в уме», а потом уже – в действительности.
Например, обезьяна не может достать банан, лежащий перед клеткой, просто вытянув руку. После небольшого замешательства обезьяна вдруг схватила одну из палок, лежащих в клетке, просунула руку с палкой между прутьями и подтянула банан. Отсутствие простого перебора вариантов свидетельствует о том, что обезьяна вначале совершает это действие «в уме», а потом уже – в действительности.
Четвертый этап развития психики – сознание человека.
2. Сознание человека.
Сознание человека представляет собой высшую стадию развития психики. Оно в первую очередь характеризуется способностью к саморефлексии (осознанию факта своего собственного существования, самосознанию и самопознанию), самонаблюдению, интенциональностью (направленностью на какой-либо объект), активностью, различной степени ясностью.
Сознание и бессознательное.
Помимо сознательных (осознаваемых субъектом) процессов существуют и бессознательные, о которых субъект не имеет никакого представления.
Первые представления о бессознательном связаны с исследованиями постгипнотических внушений, проведенных З. Фрейдом. Человеку в состоянии гипноза внушается, что после выхода из него он должен пойти в магазин и купить определенную вещь. Его выводят из гипнотического состояния и человек совершает внушенное действие, будучи не в силах внятно объяснить себе, почему он это делает.
Представления о бессознательном в различных школах зачастую диаметрально противоположны.
З. Фрейд под бессознательным понимал влечения человека, которые ему не удается реализовать, т.к. они противоречат социальным нормам, принятым в обществе нормам морали и правилам поведения. Тогда эти несознаваемые влечения сублимируются (преобразовываются) бессознательным, чтобы в этом своем новом обличье проникнуть в сферу сознания в виде снов, невротических симптомов, оговорок, описок, несчастных случаев либо страстного отношения к чему-либо.
Фрейд предлагает трехчленную структуру личности, состоящей из Ид (Оно) – несознаваемых влечений, Эго (Я)- сознательной сферы и Супер-Эго (Сверх-Я), выполняющего контролирующие функции (совесть).
Совершенно особую концепцию бессознательного предложил К.Г. Юнг, который, в отличие от З. Фрейда, выдвинул идею о коллективном бессознательном, которое сосуществует с личным бессознательным (вытесняемыми влечениями) и сознательной сферой. Коллективное бессознательное – опыт человечества, носителем которого является каждый из нас. Именно коллективное бессознательное определяет особенности восприятия мира, поведение, чувствование, эмоциональные реакции. Содержанием коллективного бессознательного являются архетипы – первообразы, образцы поведения, осмысления, видения мира, которые выступают базисом для формирования личности.
Другие авторы, например, профессор Дж. Лилли, рассматривают бессознательное, как внутреннюю Вселенную, своего рода дверь в иные миры. Новые аспекты функционирования бессознательного связаны с исследованиями
Ст. Грофом человеческого мозга при помощи ЛСД и голотропного дыхания. Гроф считает, что именно открытия, связанные с человеческим бессознательным, требуют изменения научной парадигмы, которая перестала отвечать требованиям времени.
В отечественной психологии сложилась точка зрения на бессознательное как на низший уровень психического. Бессознательное трактуется как врожденная инстинктивно-рефлекторная деятельность, направленная на удовлетворение биологических потребностей – выживание и продолжение рода.
ГЕНЕЗИС И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ГЕНЕЗИС И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ
В. В. ДАВЫДОВ
Развитие личности человека включено, на наш взгляд, в его общее психическое развитие. Многие факты, которые психологи связывают с развитием личности, вполне соотносимы с данными, касающимися общего психического развития, а в ряде случаев по своему описанию они почти совпадают (это относится, например, к 3летнему, 7летнему, 16летнему детскому возрасту).
Так, Л. И. Божович, специально изучавшая процесс формирования личности в детском возрасте, в своих последних работах сформулировала ряд положений, относящихся к тем центральным психологическим образованиям, которые, с ее точки зрения, характеризуют личность ребенка от 1 года до 17 лет. Личностным новообразованием первого года жизни ребенка являются «мотивирующие представления «, которые освобождают его от «диктата » внешних воздействий и превращают его в субъекта деятельности. Центральным образованием у ребенка 3 лет является «система Я » и рождаемая ею потребность действовать самому (требование ребенка «Я сам «). У ребенка 7 лет личностным образованием служит сложившаяся у него внутренняя позиция, когда ребенок начинает переживать себя в качестве социального индивида. В подростковом возрасте таким образованием является способность ориентироваться на цели, выходящие за пределы сегодняшнего дня, а в юношеском возрасте (15- 17 лет) — осознание своего места в будущем, своей «жизненной перспективы » [4; 30-34].
Личностным новообразованием первого года жизни ребенка являются «мотивирующие представления «, которые освобождают его от «диктата » внешних воздействий и превращают его в субъекта деятельности. Центральным образованием у ребенка 3 лет является «система Я » и рождаемая ею потребность действовать самому (требование ребенка «Я сам «). У ребенка 7 лет личностным образованием служит сложившаяся у него внутренняя позиция, когда ребенок начинает переживать себя в качестве социального индивида. В подростковом возрасте таким образованием является способность ориентироваться на цели, выходящие за пределы сегодняшнего дня, а в юношеском возрасте (15- 17 лет) — осознание своего места в будущем, своей «жизненной перспективы » [4; 30-34].
Говоря о наличии у старших дошкольников стремления к новой общественно значимой деятельности (т. е. к учению), Л. И. Божович писала: «Появление такого стремления подготавливается всем ходом психического развития ребенка и возникает на том уровне, когда ему становится доступным осознание себя не только как субъекта действия (что было характерным для предшествующего этапа развития), но и как субъекта в системе человеческих отношений.
Иными словами, Л. И. Божович называет «личностными новообразованиями » то, что сама же обозначает как субъект действий и отношений, его осознание себя социальным индивидом, его самосознание, выраженное во «внутренней позиции «. Это реальные психологические новообразования, связанные с формированием субъекта деятельности, сознания и самосознания индивида. «Личностным » же все это Л. И. Божович называет, на наш взгляд, по традиции, идущей, в частности, еще от Л. С. Выготского, который, пользуясь термином «личность » очень широко, писал следующее: «То же, что принято обычно называть личностью, является не чем иным, как самосознанием человека,
23
возникающим именно в эту (подростковую. — В. Д.) пору: новое поведение человека становится поведением для себя, человек сам осознает себя как известное единство » [7; 227].
Некоторые психологи считают, что становление личности осуществляется на всех этапах жизни человека [2; 8].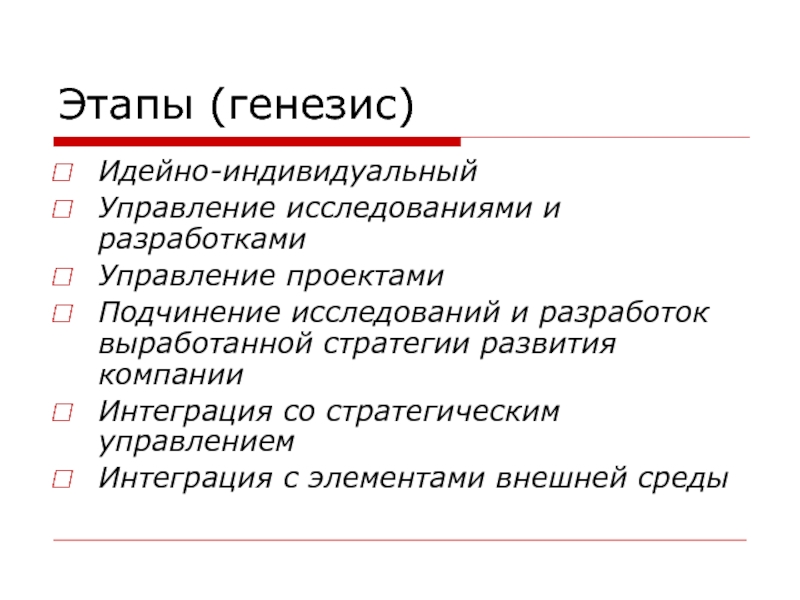 А. Н. Леонтьев, полагавший, что ядром личности является определенная иерархия соподчиненных друг другу мотивов деятельности человека, выдвинул предположение, согласно которому эта иерархия впервые появляется у ребенка в дошкольном возрасте [21; 4-15].
А. Н. Леонтьев, полагавший, что ядром личности является определенная иерархия соподчиненных друг другу мотивов деятельности человека, выдвинул предположение, согласно которому эта иерархия впервые появляется у ребенка в дошкольном возрасте [21; 4-15].
Ранее нами уже было разработано такое понимание сущности личности, согласно которому личностью является человек, обладающий определенным творческим потенциалом [II]. В русле этого понимания мы и рассматриваем основные вопросы возникновения и развития личности детей.
Личность ребенка действительно возникает в дошкольном возрасте — после 3 лет, когда дошкольник становится субъектом сознательной деятельности. Однако возникновение личности ребенка связано, по нашему мнению, не с формированием у него устойчивых и соподчиненных мотивов (хотя и это очень важно), а прежде всего с тем, что именно в дошкольном возрасте у ребенка интенсивно развивается воображение как основа творчества, созидания нового.
Внутреннюю связь творчества с воображением выделяют и подчеркивают многие психологи. Так, Л. С. Выготский в свое время писал: «…Все решительно, что окружает нас и что сделано рукой человека… является продуктом человеческого воображения и творчества, основанного на этом воображении » (8; 5]. И далее: «…В каждодневной окружающей нас жизни творчество есть необходимое условие существования, и все, что выходит за пределы рутины и в чем заключена хоть йота нового, обязано своим происхождением творческому процессу человека » [8; 7].
Так, Л. С. Выготский в свое время писал: «…Все решительно, что окружает нас и что сделано рукой человека… является продуктом человеческого воображения и творчества, основанного на этом воображении » (8; 5]. И далее: «…В каждодневной окружающей нас жизни творчество есть необходимое условие существования, и все, что выходит за пределы рутины и в чем заключена хоть йота нового, обязано своим происхождением творческому процессу человека » [8; 7].
На наш взгляд, основные этапы становления личности ребенка неотделимы от развития его творческих возможностей и, следовательно, от развития его воображения. Что такое воображение? Исследованию этой проблемы посвящены многие философские, эстетические, психологические и педагогические работы. Однако до сих пор отсутствует приемлемая полидисциплинарная теория воображения, концентрирующая в себе совокупность наиболее важных материалов. Изложим наше понимание этой проблемы.
В философскологической области наиболее интересную характеристику воображения можно найти в трудах Э. В. Ильенкова. Согласно его работам, в истории общества воображение развивается как универсальная способность человека, позволяющая ему правильно видеть то, что действительно есть в мире, как умение видеть его во всем многообразии предметов и их качеств. В актах познания воображение позволяет соотносить усвоенные общие знания с единичным фактом (иными словами, соотносить и связывать абстракции с чувственным материалом)1.
В. Ильенкова. Согласно его работам, в истории общества воображение развивается как универсальная способность человека, позволяющая ему правильно видеть то, что действительно есть в мире, как умение видеть его во всем многообразии предметов и их качеств. В актах познания воображение позволяет соотносить усвоенные общие знания с единичным фактом (иными словами, соотносить и связывать абстракции с чувственным материалом)1.
Воображение обеспечивает как бы замыкание абстрактного знания на частный факт, общего на единичное, что дает решение той или иной задачи, недостижимое чисто абстрактными мыслительными средствами. В поле воображения единичный факт поворачивается в такой ракурс, при котором начинает выступать его всеобщий характер. Воображение позволяет видеть индивидуальность факта в свете всеобщего и, наоборот, индивидуализировать общее знание так сказать «с умом «, не по штампу, а творчески. Воображение сразу схватывает факт в его всеобщем значении, в «целом «, не производя еще его детального анализа. Воображение — это способность видеть целое раньше его частей [14].
Воображение — это способность видеть целое раньше его частей [14].
К сожалению, эти принципиально важные положения не получили адекватного и развернутого раскрытия на психологическом материале. Вместе с тем в современной психологии имеется
24
много таких данных, которые позволяют гипотетически описать возможный процесс функционирования воображения.
Прежде всего благодаря воображению человек создает что-то новое — новые образы и мысли, на основе которых возникают новые действия и предметы. Это создание того, что еще не существовало. Воображение противопоставляется в жизни человека процессу прямого подражания, репродуцирования, имитации. Но нечто новое всегда так или иначе связано с реально существующим (в этом смысле со «старым «), которое подвергается более или менее глубокому преобразованию.
Как возможно в процессе воображения создание нового на основе преобразования существующего? В психологии известна такая характерная черта образов представлений об окружающем, как их гибкость и динамичность, позволяющая человеку расчленять разные свойства своих образов, а затем объединять их.
Известно, что имеющаяся у человека символическая функция заключается в том, что он первоначально выделяет, а затем замещает существенные особенности некоторого предмета какимлибо другим предметом, который начинает выполнять в деятельности этого человека некоторые общие функции исходного предмета. Один предмет становится средством воплощения свойств другого предмета, выступая при этом как его эталон или мера (примером такого воплощения является шкала твердости предметов, которая выступает эталоном твердости самых разнообразных реальных вещей — или ее символом).
Символы являются основанием для создания человеком различных моделей предметов (эти модели могут иметь вещественную, графическую и словесную форму). Модели — это форма абстракции особого рода, в которой существенные отношения предметов выражены в наглядно воспринимаемых и представляемых связях и отношениях знаковых элементов. Это своеобразное единство единичного и общего (т. е. чувственного и абстрактного), при котором на первый план выдвинуто общее, существенное.
Воображение является, на наш взгляд, основой символического замещения — они неразрывно связаны друг с другом. Воображение позволяет человеку выполнять существенные функции одних предметов в какомлибо другом предмете или символе (предметное «тело » самого символа этих функций не имеет). Возможность человека строить символы направляет его на создание существенно новых образов и предметов, не замыкаясь в кругу мелочных и пустяковых нововведений.
Возможность человека строить символы направляет его на создание существенно новых образов и предметов, не замыкаясь в кругу мелочных и пустяковых нововведений.
Отметим, что некоторые особенности воображения и символического замещения изучены в психологии достаточно подробно. Так, в работах Е. Торренса выявлены многие черты переноса свойств и функций одних предметов на образы других предметов [34], [35]. Характерные черты символического замещения описаны Д. Б. Элькониным
25
[30]. Процесс зарождения и развития символической функции прослежен Ж. Пиаже и Б. Инельдер [33], а также И. Ивичем [32]. Однако до сих пор в психологии экспериментально почти не изучается такая основная особенность воображения, как «схватывание » целого раньше его частей. Более того, гибкость и динамика репродуктивных представлений порой отождествляются с самим воображением (в этой динамике не фиксируется процесс переноса определенных свойств с одного образа на другой).
Одно из возможных истолкований смысла только что указанной основной особенности воображения может быть следующим. Перенос свойств одного образа на другой образ делает его разнородным,- возникает задача превращения такой разнородности в новую однородность. Для этого перенесенное свойство в качестве некоторой главенствующей целостности должно переформировать другие свойства (части) существующего образа и тем самым создать свои собственные части. Иными словами, переносимое свойство в качестве еще неразвернутой целостности используется как средство создания своих частей. «Схватывание » и «удерживание » целого раньше его частей является существенной особенностью воображения.
Перенос свойств одного образа на другой образ делает его разнородным,- возникает задача превращения такой разнородности в новую однородность. Для этого перенесенное свойство в качестве некоторой главенствующей целостности должно переформировать другие свойства (части) существующего образа и тем самым создать свои собственные части. Иными словами, переносимое свойство в качестве еще неразвернутой целостности используется как средство создания своих частей. «Схватывание » и «удерживание » целого раньше его частей является существенной особенностью воображения.
Создание новых образов и вещей всегда считалось творческим актом человека, который реализуется такими взаимосвязанными способностями человека, как воображение, символическое замещение и мышление3. В своей координации они направлены прежде всего на обеспечение творческих возможностей человека.
Отметим, что воображение наиболее интенсивно развивается и культивируется в недрах художественного сознания людей, которое находит свое выражение в разных видах искусства. Искусство развивает воображение людей как «всеобщую универсальную человеческую способность, т. е. способность, которая, будучи развитой, реализуется в любой сфере человеческой деятельности и познания — ив науке, и в политике, и в быту, и в непосредственном труде » [14; 33].
Искусство развивает воображение людей как «всеобщую универсальную человеческую способность, т. е. способность, которая, будучи развитой, реализуется в любой сфере человеческой деятельности и познания — ив науке, и в политике, и в быту, и в непосредственном труде » [14; 33].
Так, ученому, например, важно обладать развитым эстетическим чувством красоты, возникающим благодаря воображению, чтобы «верно схватывать образ «целого «, до того как будут «проверены алгеброй » все частности и детали этого «целого «, до того как это конкретное целое будет воспроизведено в мышлении в форме строго логически развитой системы абстракций » [14; 40].
Изложение материалов о развитии детского воображения целесообразно провести с учетом одного положения Э. В Ильенкова, затрагивающего проблему генетической связи воображения со специфически человеческим восприятием предметов. «Уметь видеть предмет почеловечески,- писал Э. В. Ильенков,- значит уметь видеть его «глазами другого человека «, глазами всех других людей, значит в самом акте непосредственного созерцания выступать в качестве полномочного представителя «человеческого рода «. .. Это своеобразное умение как раз и вызывает к жизни ту самую способность, которая называется «воображением «, «фантазией «,- ту самую способность, которая позднее в искусстве достигает профессиональных высот своего развития, своей культуры » [15; 60-61].
.. Это своеобразное умение как раз и вызывает к жизни ту самую способность, которая называется «воображением «, «фантазией «,- ту самую способность, которая позднее в искусстве достигает профессиональных высот своего развития, своей культуры » [15; 60-61].
Такая основная особенность воображения, как «схватывание » целого раньше частей, позволяет индивиду «сразу «, интегрально видеть предметы глазами «всех других людей » (в том числе и людей угасших поколений). «Он не вынужден для этого воображать себя на месте каждого из этих людей » [15; 60]. Этим образ воображения существенно отличается от образов памяти и воспоминаний.
Видение предмета «глазами другого человека » является вместе с тем исходным моментом человеческого сознания [10; 36]. Поэтому генезис и развитие
26
предметного восприятия, воображения и сознания тесно связаны друг с другом. Сознание невозможно без воображения, а само воображение «организует » восприятие (т. е. чувственность). Все они вместе служат основой творческой деятельности человека, порождающей его личность. Иными словами, с одной стороны, трудно чтолибо сказать о личности человека, не раскрыв творческого потенциала его деятельности, с другой — один из существенных источников этого потенциала следует искать в едином развитии восприятия, воображения и сознания человека.
Иными словами, с одной стороны, трудно чтолибо сказать о личности человека, не раскрыв творческого потенциала его деятельности, с другой — один из существенных источников этого потенциала следует искать в едином развитии восприятия, воображения и сознания человека.
Как показано в работах Д. Б. Эльконина, развитие сенсорики в первые месяцы жизни ребенка включено в его взаимодействие с ухаживающими за ним взрослыми (взрослые, наклоняясь над ребенком, приближают и отдаляют свое лицо, фиксируют его взгляд на ярко окрашенной игрушке и т. п.). В отличие от первого периода жизни, например, детеныша шимпанзе, у человеческого младенца развитие сенсорики с самого начала происходит в процессе становления коммуникативных функций (в конце 2-го — начале 3-го месяца жизни у ребенка появляется своеобразный «комплекс оживления » при виде взрослого,- ничего подобного нет у детеныша шимпанзе). Уже первое хватание предметов (т. е. возникновение сенсомоторики) происходит в совместных действиях ребенка со взрослым, который, отдаляя предмет от ребенка, вызывает сосредоточение его взгляда на предмете, вынуждает ребенка подтягиваться к нему.
На основе актов хватания у ребенка начинает формироваться манипулирование предметами,- внутри этого процесса бурно развивается восприятие. Но это манипулирование опосредуется взрослым, который незримо руководит предметными действиями ребенка. Так, представляя ему вполне определенные игрушки, взрослый уже «программирует » те сенсорнодвигательные операции, которые необходимы ребенку для обращения с ними. Движения ребенка (а восприятие неотделимо от них) подчиняются заданным свойствам предмета — правда, не чисто физическим, а свойствам, тесно связанным с общественно выработанным способом его употребления.
Путем совместных действий с ребенком взрослый передает ему образец этого способа, организует его действия, осуществляя поощрение и контроль за ходом их формирования. Овладение предметным действием связано с построением самим ребенком его образа, адекватного образцу, заданному взрослым [31; 123-138].
Д. Б. Эльконин описал также процесс формирования у ребенка образа действия и его самостоятельного выполнения. Взрослый вместе с ребенком начинает действие, а ребенок его заканчивает,- появляется возможность его показа, когда ребенок прослеживает действие взрослого, опробывает его, усваивает его цель и смысл, просит помощи, поощрения и оценки при попытках правильного и самостоятельного выполнения его [31; 49-50; 135-140]. Особое значение содействия взрослого при формировании у ребенка предметного действия отметил Б. Г. Ананьев,- это содействие выполняет функции коммуникации, руководства и оценки [1; НО].
Взрослый вместе с ребенком начинает действие, а ребенок его заканчивает,- появляется возможность его показа, когда ребенок прослеживает действие взрослого, опробывает его, усваивает его цель и смысл, просит помощи, поощрения и оценки при попытках правильного и самостоятельного выполнения его [31; 49-50; 135-140]. Особое значение содействия взрослого при формировании у ребенка предметного действия отметил Б. Г. Ананьев,- это содействие выполняет функции коммуникации, руководства и оценки [1; НО].
Итак, самостоятельное предметное действие и соответствующее восприятие формируются у ребенка на основе его совместного действия со взрослым при таком их общении, когда взрослый задает образец этого действия, контролирует и оценивает весь процесс его выполнения (ребенок в результате осуществляет его, опираясь на собственный образ). Это является психологической расшифровкой того выражения, которое мы привели раньше,- ребенок «видит » предмет и «глазами других людей » (образ действия складывается у него при ориентации на общественно выработанный способ употребления предмета). Следовательно, воображение возникает и начинает выполнять свои функции уже на первых этапах формирования предметного действия и восприятия,- оно позволяет ребенку уловить общий смысл действия, руководствоваться требованиями контроля за его выполнением, принимать оценку результата со стороны других
Следовательно, воображение возникает и начинает выполнять свои функции уже на первых этапах формирования предметного действия и восприятия,- оно позволяет ребенку уловить общий смысл действия, руководствоваться требованиями контроля за его выполнением, принимать оценку результата со стороны других
27
людей. «Свертывание » всего этого в самостоятельном действии также происходит благодаря воображению, которое позволяет индивидуальному восприятию и действию иметь общественный и тем самым сознательный характер.
К сожалению, закономерности генезиса воображения и сознания изучены пока мало, хотя в области формирования предметного действия и восприятия ребенка накоплен большой фактический материал, которому необходимо придать соответствующую теоретическую форму (учитывая при этом и роль возникшей у ребенка речи). Имеются интересные данные, свидетельствующие о проявлениях воображения еще в доречевой период жизни ребенка [22].
Таким образом, возникновение воображения и сознания приходится на младенческий возраст и ранний возраст, для которого характерна в качестве ведущей предметно манипулятивная деятельность ребенка.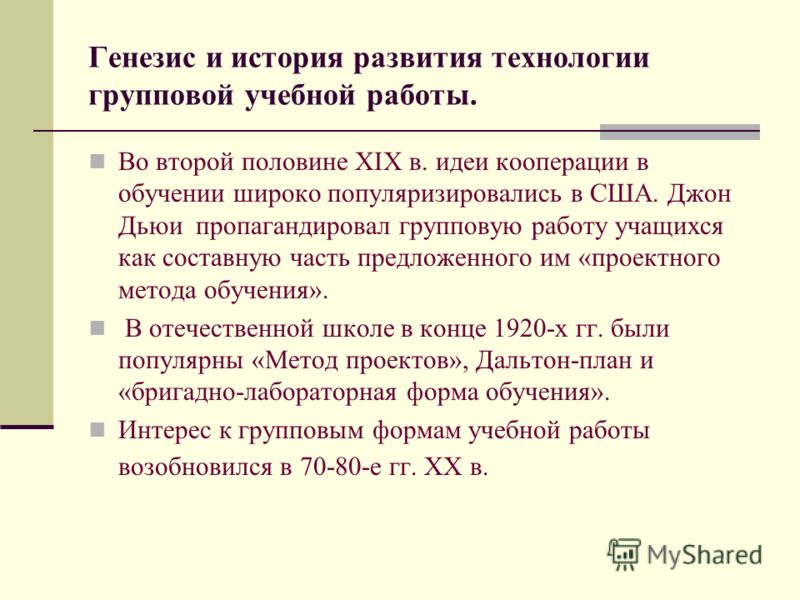 Здесь, на наш взгляд, возникают существенные предпосылки его личности (но именно предпосылки в виде ранних форм воображения и сознания). Благодаря им уже с трех лет у ребенка начинает складываться собственно личностное или творческое содержание его деятельности. Это первоначально происходит внутри игры, которая в дошкольном возрасте является ведущей деятельностью.
Здесь, на наш взгляд, возникают существенные предпосылки его личности (но именно предпосылки в виде ранних форм воображения и сознания). Благодаря им уже с трех лет у ребенка начинает складываться собственно личностное или творческое содержание его деятельности. Это первоначально происходит внутри игры, которая в дошкольном возрасте является ведущей деятельностью.
О связи развития воображения с игрой написано немало работ. Этот факт отмечается многими учеными и имеет принципиальное научное и практическое значение. Так, Л. С. Выготский писал следующее: «Игра ребенка не есть простое воспоминание о пережитом, но творческая переработка пережитых впечатлений, комбинирование их и построение из них новой действительности, отвечающей запросам и влечениям самого ребенка » [8; 7].
Игра детейдошкольников, особенно если она осуществляется при умелом руководстве педагоговвоспитателей, способствует развитию у них прежде всего воображения, позволяющего им придумывать, а затем и реализовывать замыслы коллективных и индивидуальных игровых действий [24]. С нашей точки зрения, как раз в «замысле » ребенка обнаруживается одна из важнейших особенностей воображения — умение «видеть » целое раньше частей. «Замысел » — это некоторая общая целостность, которую можно раскрыть через многие части. Такое раскрытие осуществляется в процессе реализации и воплощения «замысла «.
С нашей точки зрения, как раз в «замысле » ребенка обнаруживается одна из важнейших особенностей воображения — умение «видеть » целое раньше частей. «Замысел » — это некоторая общая целостность, которую можно раскрыть через многие части. Такое раскрытие осуществляется в процессе реализации и воплощения «замысла «.
Это наше понимание «замысла » подтверждается результатами исследования О. М. Дьяченко [13]. Ею установлено, что воображение имеет два компонента: порождение общей идеи решения задачи и составление плана реализации этой идеи ( «общая идея » — это то, что мы назвали замыслом, требующим реализации). При создании общей идеи дети от 3 до 5 лет используют в основном элементы реальности в качестве центральной части нового образа. У детей 6-7 лет эти элементы занимают второстепенное место,- новый образ строится ими в процессе свободного оперирования представлениями. При воплощении нового образа дошкольники могут использовать наглядную модель, фиксирующую последовательность получения продукта. В рассматриваемой работе показано, что в дошкольном возрасте вполне возможно целенаправленное воздействие на развитие воображения ребенка с помощью специальных заданий (разработана соответствующая программа для детей 3-7 лет).
В рассматриваемой работе показано, что в дошкольном возрасте вполне возможно целенаправленное воздействие на развитие воображения ребенка с помощью специальных заданий (разработана соответствующая программа для детей 3-7 лет).
Существенно следующее обстоятельство: в дошкольном возрасте наряду с игрой большую роль в развитии воображения имеют художественная деятельность, конструирование, элементы труда и учения, которые реализуются средствами художественного, умственного и нравственного воспитания детей. Правда, эти средства первоначально имеют игровую форму, но вместе с тем они обладают своими особыми целями. Они взаимосвязаны и направлены на выполнение детьми различных действий, которые принято называть творческими (например, лепка, танцы, конструирование) [31; 150].
С трех лет маленький ребенок начинает выполнять свои действия относительно самостоятельно, может «идти от замысла к его воплощению, от мысли
28
к ситуации, а не от ситуации к мысли » [31; 150]. Взаимодействие и общение ребенка со взрослыми, конечно, сохраняется, но они приобретают иную форму, чем это было раньше. К концу раннего детства происходит распад непосредственно совместной деятельности ребенка со взрослыми,- ребенок начинает отделять свои действия и самого себя от взрослого, у него появляются собственные желания и тенденция к самостоятельным действиям. Теперь возникло опосредованное присутствие взрослого в этих действиях (например, через игровую роль, которую берет на себя ребенок) [31; 153-154].
Взаимодействие и общение ребенка со взрослыми, конечно, сохраняется, но они приобретают иную форму, чем это было раньше. К концу раннего детства происходит распад непосредственно совместной деятельности ребенка со взрослыми,- ребенок начинает отделять свои действия и самого себя от взрослого, у него появляются собственные желания и тенденция к самостоятельным действиям. Теперь возникло опосредованное присутствие взрослого в этих действиях (например, через игровую роль, которую берет на себя ребенок) [31; 153-154].
Особенно большое значение в развитии воображения у ребенкадошкольника имеют художественное и умственное воспитание. Особенности художественного творчества дошкольников изложены во многих публикациях. При этом, в частности, показано, как в игровой форме у детей зарождаются элементы художественного творчества, когда они импровизируют попевки, танцы, воплощают свои замыслы в рисунках, лепке. «…У детей с обычным уровнем развития способностей,- пишет Н. А. Ветлугина,- обнаруживается очень раннее стремление к творчеству.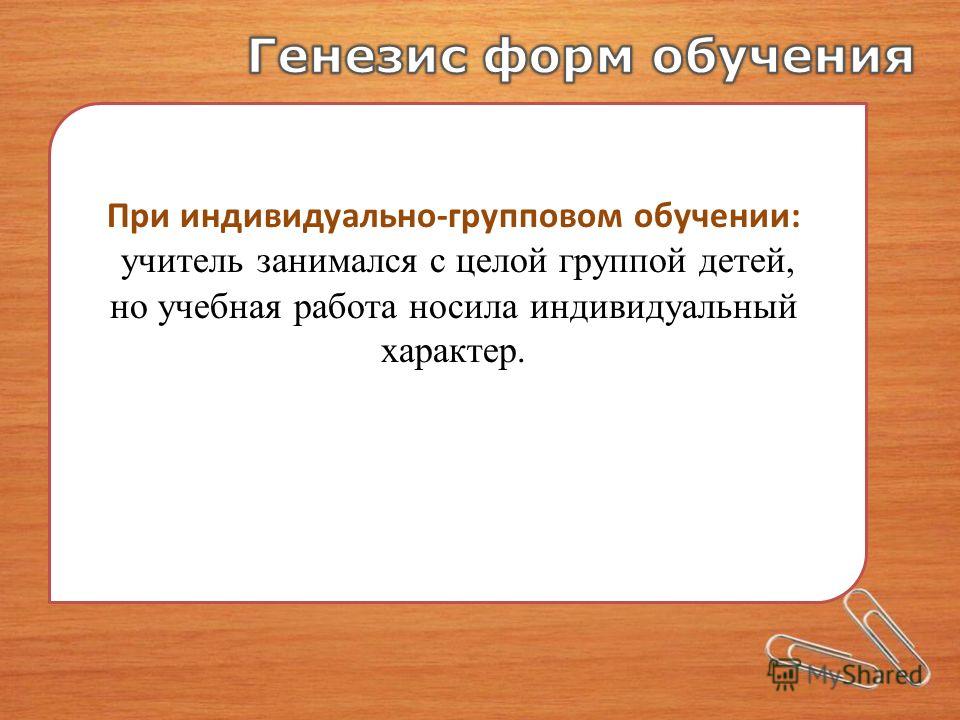 Они испытывают радость от сочинения даже самых простейших прибауток, стихов, песен, рисунков, танцев » [6; 16].
Они испытывают радость от сочинения даже самых простейших прибауток, стихов, песен, рисунков, танцев » [6; 16].
Проблема умственного воспитания как средства развития воображения дошкольников освещена меньше. Остановимся на этой проблеме. Умственное воспитание направлено на формирование у дошкольников определенного уровня знаний, элементарных познавательных умений (например, умения сравнивать и обобщать) и познавательных мотивов (любознательности). Оно призвано формировать у ребенка способность осуществлять различные виды предметного и умственного экспериментирования [27; 20-22]. Такая общая направленность умственного воспитания тесно связана с развитием воображения детей. Так, экспериментирование ребенка, с одной стороны, опирается на воображение, с другой — в процессе своего развернутого осуществления развивает его.
Умственное воспитание реализуется средствами игры, конструирования, труда и обучения. Влияние этого воспитания на развитие воображения описано в ряде работ [9]. В конце 80-х годов эта проблема специально разрабатывалась в нашей лаборатории Института дошкольного воспитания АПН СССР,- получены соответствующие новые данные (они еще ждут своей развернутой публикации). Кратко изложим некоторые из них.
В конце 80-х годов эта проблема специально разрабатывалась в нашей лаборатории Института дошкольного воспитания АПН СССР,- получены соответствующие новые данные (они еще ждут своей развернутой публикации). Кратко изложим некоторые из них.
Интересные материалы были получены Е. Е. Кравцовой, которая в своей работе четко выявила две основные особенности воображения, отмеченные нами выше. Было установлено, что умение «схватывать » целое раньше его частей формируется у ребенка при выполнении так называемой режиссерской игры, когда он одновременно занимает позиции разработчика сюжетов, постановщика и исполнителя ролей (в этой игре ребенок может видеть свои поступки со стороны). В одном эксперименте, где дети должны были самостоятельно размещать картинки, часть детей стремилась делать это, исходя из собственного целостного замысла [19].
В другой работе был найден интересный путь целенаправленного формирования у детей элементов конструкторского творчества, предполагающий самостоятельное конструирование ими по собственному замыслу на основе экспериментирования с различным материалом. Это приводило к значительному повышению уровня конструирования, что выражалось в новизне замыслов, в оригинальности способов их реализации, в переходе от одиночных поделок к сюжетному конструированию [28].
Это приводило к значительному повышению уровня конструирования, что выражалось в новизне замыслов, в оригинальности способов их реализации, в переходе от одиночных поделок к сюжетному конструированию [28].
При обучении дошкольников умению предвидеть изменения в растущем цветке было выявлено, что важным способом усвоения детьми этого умения служит построение ими в словах и в рисунках конкретного образа нового состояния растения. Это способствует развитию их воображения, образы которого помогают детям наблюдать за реальными изменениями объекта [29]. В одной из работ исследовалась роль экспериментирования над объектами неживой
29
природы в процессе решения старшими дошкольниками нескольких мыслительных задач,- многие дети при этом самостоятельно открывали и формулировали некоторые простые регулярные изменения в природе [17].
Результаты этих и некоторых других исследований подвели нас к выводу о том, что дети дошкольного возраста способны к элементарным формам познавательного творчества наряду с художественным (по всей вероятности они способны и к нравственному творчеству). Иными словами, взаимосвязанные виды воспитания дошкольников могут приводить в результате к развитию соответствующих форм детского творчества. Это означает, что именно в дошкольном возрасте у ребенка формируется каркас личностного уровня деятельности. К концу этого возраста дети могут стать субъектами, обладающими личностью.
Иными словами, взаимосвязанные виды воспитания дошкольников могут приводить в результате к развитию соответствующих форм детского творчества. Это означает, что именно в дошкольном возрасте у ребенка формируется каркас личностного уровня деятельности. К концу этого возраста дети могут стать субъектами, обладающими личностью.
Мы проследили генезис и становление исходных форм личности. Изложим наше понимание ее дальнейшего развития в школьном возрасте (в этой области накоплен определенный материал, обрабатываемый с разных теоретических позиций [26]).
Между дошкольным и школьным периодами есть существенные различия в общих условиях современной социальнопедагогической организации деятельности детей. Деятельность дошкольников протекает в условиях, при которых они еще не включены в жесткую систему занятий,- взрослые больше стремятся их воспитывать, чем обучать, а ребенок может выступать как субъект, которому нравится и приятно действовать именно так, а не иначе (например, дошкольники играют только по собственному желанию,- «заставить » их играть невозможно). Это способствует проявлению и развитию их творческих возможностей, т. е. их личности4.
Это способствует проявлению и развитию их творческих возможностей, т. е. их личности4.
С первых дней пребывания в школе дети попадают (во всяком случае в условиях нашей страны) в жесткую систему образования, в которой доминирует обучение, направленное по преимуществу на передачу школьникам «знаний » и на одностороннее культивирование у них репродуктивного мышления. Художественное, нравственное и физическое воспитание существенно ущемлены и находятся на втором плане по сравнению с преподаванием «научных дисциплин «. Школьников нередко «заставляют » учиться без их собственного желания,- они являются большей частью лишь объектами учебнодисциплинарных воздействий системы образования. Поэтому она не создает тех условий, которые необходимы для развития творчества школьников, их личности. Обновление нашего школьного образования должно быть нацелено прежде всего на приоритет в нем всех форм воспитания личности учащихся, которые могут выступать как подлинные субъекты своей деятельности [12].
Развернутый критический анализ современного состояния начального образования и предложения по его обновлению приведены нами в другой работе [10]. Применительно к особенностям личности младшего школьника можно сказать следующее: в этом возрасте при создании необходимых условий для развертывания полноценной учебной деятельности дети могут овладеть основами разумнотеоретического рефлексирующего сознания и мышления и общей ориентацией в «высоком » искусстве [10], [23]. Это очень значимо для раскрытия творческих возможностей и развития личности младшего школьника. Обновленное начальное образование может быть периодом формирования личности рефлексирующего субъекта.
В подростковом возрасте, соответствующем ступени неполного среднего образования, при благоприятных социальнопедагогических условиях ведущим может стать тот тип деятельности, который формирует у подростков способность к гибкому общению в различных коллективах, основы практического сознания, ориентацию в сфере
30
нравственности [10]. Все это, а также выполнение художественной деятельности способствует развитию творческого потенциала подростков.
Все это, а также выполнение художественной деятельности способствует развитию творческого потенциала подростков.
Рассматривая своеобразные черты литературного творчества школьников, Л. С. Выготский отмечает, что до него дети должны «дорасти «, приобрести необходимый внутренний опыт,- поэтому лишь у подростков можно наблюдать серьезные проявления литературного творчества (интересно его суждение о том большом значении, которое оно имеет для развития воображения подростков и их эмоциональной сферы). Соглашаясь с Л. С. Выготским в том, что включение в литературное творчество требует важных психологических предпосылок, можно отметить, что, согласно новым исследовательским материалам (см. работу Г. Н. Кудиной и 3. Н. Новлянской [20]), значительная часть этих предпосылок может появиться у детей еще в младшем школьном возрасте, а не в подростковом,- правда, при использовании особых средств введения этих детей в область литературы.
Большой интерес представляют высказывания Л. С. Выготского о целесообразности правильной педагогической поддержки театрального творчества школьников, о внутренней его связи с актами двигательной драматизации, с предметным воплощением образов воображения. Анализируя вопрос «о затухании » изобразительного творчества в подростковом возрасте, Л. С. Выготский правомерно связывает возможности его сохранения у подростков с овладением ими культурой живописного изображения. Оригинальны его соображения о необходимости решительной поддержки в школе всего того, что способствует становлению технического творчества детей, вносящего серьезный вклад в развитие их воображения [8; 77-78].
Наличие у подростков способности к общению, элементов практического сознания, общей ориентации в сфере нравственности и тяги к художественному творчеству служит хорошим основанием для осуществления ими таких сознательных действий, за которые подростки уже начинают нести моральную и дисциплинарную ответственность. Этот возраст является периодом формирования личности сознательного и ответственного за свои действия субъекта.
Полному среднему образованию соответствует возраст раннего юношества, для которого характерна учебнопрофессиональная деятельность [10]. Посредством этой деятельности многие юноши и девушки осваивают ориентацию в своем ближайшем будущем и умение планировать его, приобретают способность к избирательному общению, рефлексию на свои моральные действия, критическое отношение к общественной жизни, стремление к художественному творчеству. К концу этого возраста молодые люди готовы сознательно совершать общественнозначимые и общественно оцениваемые действия,- пока только готовы, но уже и это является показателем высокого уровня развития личности. Такая готовность становится реальностью в позднем юношестве, когда молодые люди после окончания учебных заведений выходят в практическую жизнь со всеми ее сложными и часто непредсказуемыми требованиями, которые нельзя «обойти «, оставив в плане представлений. Именно здесь они сталкиваются с неожиданными ситуациями, в которых нужно искать и реализовать правильный выход, концентрируя возможности мышления, воображения, воли, нравственной стойкости. Эта сфера требует нравственных и гражданских поступков, в которых выражается подлинный творческий потенциал молодого человека. Этот потенциал является важным показателем зрелости его личности.
Рассмотрим некоторые другие вопросы, касающиеся развития личности. Приведенные материалы свидетельствуют о том, что этот процесс неотделим от общего психического развития детей и его периодизации. Личность развивается на основе своеобразного синтеза разных видов деятельности и разных психологических образований (прежде всего воображения и сознания), которые имеют разный удельный вес в тот или иной возрастной период, определяя конкретный творческий потенциал человека. Становление этого
31
потенциала изучено пока очень мало,- поэтому дальнейшее исследование развития личности предполагает разработку особой целостности программы и средств ее реализации.
При этом нельзя выявить подлинные глубины творческого потенциала человека, оставаясь лишь в пределах устоявшихся форм его жизнедеятельности и уже принятых систем его обучения и воспитания, так как в других условиях жизни и в других системах обучения и воспитания этот потенциал может существенно меняться. Цель развивающего образования как раз и состоит в том, чтобы углубить его и расширить (применительно к дошкольному детству мы выше уже приводили некоторые данные, подтверждающие возможность реализации этого; о школьных возрастах соответствующие материалы представлены в других публикациях [10], [25]).
Проведенное рассмотрение проблемы развития личности как бы «привязано » к сфере образования. При этом почти не затрагивался широкий спектр всех условий жизни детей. В этом, конечно, присутствует определенная односторонность анализа этой проблемы. Но вместе с тем в жизни многих современных молодых людей решающее значение имеет, на наш взгляд, именно система образования. Она как раз и создана в истории для целенаправленного формирования личности (об этом свидетельствует история культуры и образования). Если эта система не достигает соответствующих социальнопедагогических целей, то это говорит о ее неполноценности. Внеобразовательные сферы жизни ребенка, конечно, оказывают большое влияние на развитие его личности. Однако это влияние в значительной степени зависит от уровня и качества образования. К тому же взаимосвязь этих сфер изучена, к сожалению, слабо.
В нашем анализе можно заметить еще некоторую односторонность, связанную с тем, что мы при построении теории развития личности не учитывали индивидуальных вариантов. В реальном этом процессе таких вариантов много (каждый человек обязательно в чемто важном отличается от другого). Но при этом можно высказать два соображения. Вопервых, для подбора вариантов и их классификации уже необходимо иметь некоторый проект теории, вовторых, этот проект как раз и позволяет целенаправленно рассмотреть индивидуальные варианты, чтобы с их помощью в дальнейшем создавать развернутую теорию, опирающуюся на фактический материал. В своей статье мы как раз и сделали некоторый набросок проекта такой теории, для конкретизации которой нужно рассматривать относящиеся к ней индивидуальные варианты развития личности детей.
В связи с вопросом об индивидуальных вариантах следует привести высказывания Л. С. Выготского, в которых он решительно возражает против того, что творчество является уделом избранных детей (особо ярких вариантов). «Если понимать творчество в его истинном психологическом смысле, как создание нового,- писал он,- легко прийти к выводу, что творчество является уделом всех в большей или меньшей степени, оно же является нормальным и постоянным спутником детского развития » [8; 32]. Из этого вывода проистекает оптимистическая педагогическая идея, связанная с воспитанием творческих способностей детей. И очень характерно следующее высказывание Л. С. Выготского: «Типичные особенности детского творчества выясняются лучше всего не на вундеркиндах, а на обычных нормальных детях » [8; 32].
И, наконец, еще один вопрос, касающийся социальнопсихологической природы детского творчества. Раскрывая свое общее понимание личности, мы специально выделяли такую существенную ее черту, как создание чего-то «нового » в общественной жизни. Применительно к взрослому человеку это допустимо, но, естественно, к детям эта мерка не подходит. Как же здесь поступить? Предварительный ответ такой.
Некоторые специалисты применительно к аналогичному вопросу указывали на необходимость расчленения в творчестве «общественнообъективного нового » и «индивидуальносубъективного нового » (основания для такого
32
расчленения имеются). Конечно, для детей характерно «новое » второго вида, но вместе с тем оно имеет прямое отношение к личности. Прежде всего в детском возрасте личность только формируется,- в более или менее зрелой форме у ребенка она отсутствует (эту форму можно наблюдать лишь в позднем юношестве, и то далеко не у всех молодых людей). Но формируется и развивается именно личность человека посредством тех процессов, которые так или иначе связаны с творчеством, когда дети уже умеют находить нестандартные и оригинальные решения задач в художественной, познавательной и нравственной сферах.
При этом важно обратить внимание на особенности развития некоторых вундеркиндов, которые раньше чем «обычные » дети создают «общественнообъективное новое «. К таким детям можно отнести, например, маленького Моцарта как музыкантаисполнителя и девочку Надю Рушеву, выставка рисунков которой, прошедшая после ее смерти, поразила не только широкую публику, но и профессиональных художников. Индивидуальное развитие этих своеобразных детей может во многом дополнить развитие личности у обычных детей,- и то, и другое необходимо для построения соответствующей теории.
Наше понимание развития личности детей, увязывающее его с развитием воображения, можно подкрепить следующим положением Л. С. Выготского:
«Создание творческой личности, устремленной в будущее, подготовляется творческим воображением, воплощающимся в настоящем » [8; 78]. С этими словами нельзя не согласиться.
1. Ананьев Б. Г. Избр. психол. труды: В 2 т. Т. 2. М., 1980.
2. Анцыферова Л. И. К психологии личности как развивающейся системы // Психология формирования и развития личности / Под ред. Л.И. Анцыферовой. М., 1981.
3. Арсеньев А. С., Библер В. С., Кедров Б. М. Анализ развивающегося понятия. М., 1967.
4. Божович Л. И. Этапы формирования личности в онтогенезе // Вопр. психол. 1978. № 4. С. 23 35.
5. Бодрова Е. В., Давыдов В. В., Петровский В. А., Стеркина Р. Б. Опыт построения психологопедагогической концепции дошкольного воспитания // Вопр. психол. 1989. № 3. С. 22 31.
6. Ветлугина Н. А. Основные проблемы художественного творчества детей // Художественное творчество и ребенок / Под ред. Н. А. Ветлугиной. М., 1972.
7. Выготский Л. С. Собр. соч.: В 6 т. Т. 4. М., 1983.
8. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. М., 1991.
9. Давидчук А. Н. Развитие у дошкольников . конструктивного творчества. М., 1976.
10. Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения. М., 1986.
11. Давыдов В. В. О понятии личности в современной психологии / Психол. журн. 1988. Т. 9. № 4. С. 22 32.
12. Давыдов В. В. Научное обеспечение образования в свете нового педагогического мышления // Новое педагогическое мышление / Под ред. А. В. Петровского. М., 1989.
13. Дьяченко О. М. Пути активизации воображения дошкольников // Вопр. психол. 1987. № 1. С. 44 51.
14. Ильенков Э. В. О «специфике » искусства // Вопросы эстетики. Вып. 4. М., 1960.
15. Ильенков Э. В. Об эстетической природе фантазии // Вопросы эстетики. Вып. 6. М., 1964.
16. Ильенков Э. В. Диалектическая логика. М., 1984.
17. Колечко Т. В. Как и почему? Ознакомление старших дошкольников с явлениями неживой природы / Дошкiльно виховання. 1988. № 10-11.
18. Коршунова Л. С., Пружинин Б. И. Воображение и рациональность. М., 1989.
19. Кравцова Е. Е. Психологические проблемы готовности детей к обучению в школе. М., 1991.
20. Кудина Г. Н., Новлянская 3. Н. Литература как предмет эстетического цикла. М., 1990.
21. Леонтьев А. Н. Психическое развитие ребенка в дошкольном возрасте // Психическое развитие ребенка дошкольного возраста. / Под ред. А. Н. Леонтьева. М., 1948.
22. Палагина Н. Н. Доречевые формы воображения в действиях с предметами детей второго года жизни // Ребенок в раннем и дошкольном детстве. Фрунзе, 1982.
23. Полуянов Ю. А. Воображение и способности. М., 1982.
24. Проблемы дошкольной игры: психологопедагогический аспект / Под ред. Н. Н. Поддъякова и Н. Я. Михайленко. М., 1987.
25. Психическое развитие младших школьников / Под ред. В. В. Давыдова. М., 1990.
26. Психология развивающейся личности / Под ред. А. В. Петровского. М., 1987.
27. Развитие мышления и умственное воспитание дошкольников / Под ред. Н. Н. Поддьякова и А. Ф. Говорковой. М., 1985.
28. Урадовских Г. В. Оптимизация процесса формирования творчества у дошкольников в конструкторской деятельности // Особенности обучения и воспитания детей дошкольного возраста / Под ред. Н. Н. Поддьякова. М., 1987.
29. Христовская Т. В. Формирование у дошкольников динамических представлений о росте и развитии растений // Особенности обучения и воспитания детей дошкольного возраста / Под ред. Н. Н. Поддьякова. М., 1987.
30. Эльконин Д. Б. Психология игры. М., 1978.
31. Эльконин Д. Б. Избр. психол. труды / Под ред. В. В. Давыдова и В. П. Зинченко. М., 1989.
32. Ivic I.. Covek kao animal symbolicum. Beograd, 1987.
33
33. Piaget J., Inhelder B. La psyhologie de l’enfant. Paris, 1982.
34. Torrence E. Discontinuities in creative development // Issues and Advances in Educational Psychology. 1969.
35. Torrence E. Can we teach children to think creytively? // J. of Creative Behav. 1972. N6.
1 В свое время И. Кант описал воображение как своеобразную форму связи рассудка и чувственности. Это положение становится предметом рассмотрения в некоторых современных философских работах [18].
2 Если новый образ не может быть реализован в том или ином предметном материале, то он так и остается лишь образом воображения. Такими неосуществленными образами являются знаменитые сфинксы, кентавры, драконы, которые были созданы людьми по законам воображения (расчленение свойств реальных образов, их перенос и объединение в новом образе).
3 Творческое мышление, опирающееся на воображение, можно охарактеризовать следующим образом: «Новое всегда возникает как целое, которое затем формирует свои части, разворачиваясь в систему. Это выглядит как «схватывание » мышлением целого раньше его частей и составляет характерную черту содержательного творческого мышления » [3; 224].
4 Речь идет здесь об общих социальнопедагогических тенденциях, имеющихся в дошкольном детстве, которые вместе с тем в реальной практике не всегда находят свое полное выражение. Современная система нашего дошкольного воспитания (как семейного, так и общественного) нуждается в существенном улучшении [5].
(PDF) Генезис психологической суверенности: фактор порядка рождения Genesis of Psychological Sovereignty: Birth Order Factor
138 ВЕСТНИК РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. 2019. №2
Над чем работают победители конкурсов РФФИ
во внимание других людей и устанавли-
вать с ними равноправное взаимодей-
ствие. По статусу в структуре личности
суверенность представляет собой чер-
ту второго уровня, или так называемую
характерную адаптацию. В соответствии
с концепцией Большой Пятёрки, по хо-
ду жизни люди реагируют на своё окру-
жение, развивая в себе паттерны мыслей,
чувств и действий, согласующиеся с их
чертами и прежним опытом [9, 10]. Эти
паттерны становятся устойчивыми чер-
тами, опосредуя взаимодействие челове-
ка с его физической и социальной средой
и регулируя его поведение. На протяже-
нии всего детства ребёнок эксперимен-
тирует с приёмами и способами защиты
своего эмпирического «Я» [3, 5], отбирая
из них наиболее эффективные, которые
затем и закрепляются в качестве черты
личности.
Очевидно, что границы Я, по определе-
нию будучи межличностным феноменом,
развиваются и могут быть изучены толь-
ко во взаимодействии субъекта с други-
ми, причём особо значимым фактором
оказывается семейная система. Границы
начинают формироваться в проксималь-
ных отношениях, между собой и «сво-
ими», в микро- и мезосистемах [6, 8].
В дальнейшем, дифференцируясь и сепа-
рируясь от ближайшего окружения в по-
вседневной жизни, человек обретает ав-
тономию, растёт как субъект.
Отметим, что если суверенность как
итог очередного шага сепарации от ро-
дителей уже изучалась раньше, то роль
братьев и сестёр в этом процессе не ис-
следовалась вообще. Между тем адап-
тация ребёнка во многом определяется
именно его относительным положением
в семье, статусом единственного, стар-
шего или младшего ребёнка. Опыты дет-
ства рядом с сестрой или братом могут
служить ключом к пониманию особенно-
стей уровня и профиля психологической
суверенности [4].
К настоящему времени фактор поряд-
ка рождения (birth order, «статус сиблин-
га») рассматривается как определяющий
по отношению к разным параметрам по-
явления способностей, качеств личности
и жизнестойкости в целом. Согласно тео-
рии Салловея, индивидуальные разли-
чия в зависимости от статуса сиблинга
связаны с тем, что родители вкладыва-
ют больше эмоциональных и материаль-
ных ресурсов в воспитание первых детей,
бессознательно рассчитывая на то, что
именно от них будут получать в старо-
сти поддержку [14, 16]. Кроме того, в на-
чале своего родительства они, как пра-
вило, не знают о том, сколько ещё детей
у них будет. В то же время другие данные
предоставляют противоречивую карти-
ну влияния порядка рождения на жизне-
стойкость и адаптированность детей. Так,
в Швеции обнаружено, что среди стар-
ших детей в семье отмечается меньшая
смертность и как следствие
—
бо́льшая
продолжительность жизни по сравнению
с позже родившимися, среди которых
особенно уязвимы девочки [12]. Однако
аналогичное исследование в Калифорнии
подобной зависимости не показало [13].
Исследования связи статуса сиблинга
с особенностями взаимодействия пока-
зали, что позже родившиеся дети более
свободны и счастливы в романтических
отношениях [11], что в семьях из двух де-
тей старшие менее склонны к взаимодей-
ствию; родившиеся спустя большой про-
межуток времени после предыдущего ре-
бёнка меньше боятся отвержения со сто-
роны других людей; те, кто подчиняется
другим членам семьи, обычно более тре-
вожны, что чаще наблюдается у младших
детей [7]. И совсем особую нишу в се-
мье занимают «затерявшиеся» посерёд-
ке: средние дети меньше чувствуют узы
родства, не так близки к матери, как стар-
шие и младшие, и никак не выделяют ро-
дителей как потенциальных помощников
в разных трудных ситуациях [15].
Как бы то ни было, можно ожидать,
что наличие/отсутствие братьев и се-
стёр очевидно повышает межличност-
ную компетентность и социальный (меж-
Книги по психологии — психологическая литература от издательства «Генезис» в Москве
Психология — достаточно молодая наука, при этом она успела прочно войти во все сферы человеческой жизни. Влияние знаний о психологии на жизнь человека неоспоримо. Меняются времена, меняются люди, меняются и акценты в изучении психологии человека, совершенствуются теории и методы работы, возникают новые направления и сферы применения. Поэтому и литература в области психологии весьма разнообразна: есть базовые теоретические издания, есть учебная литература, есть много замечательных книг по практической психологии. Порой сложно сориентироваться во всем многообразии предлагаемой продукции — книг, пособий, игр, рабочих материалов.
Интернет-магазин издательства «Генезис» специализируется на продаже литературы по психологии. У нас вы сможете получить информацию не только о наших книгах, но и о новинках других издательств. Мы предлагаем большой выбор книг, а также иной продукции (методические материалы, игры, метафорические карты, диски, плакаты и прочее). В нашем интернет-магазине всегда найдется что-то полезное как для профессиональных практикующих психологов, для студентов, так и для тех, кому интересен внутренний мир человека, — в наших книгах можно найти ответы на множество вопросов.
У нас представлены и труды классиков психологии, и практические разработки современных зарубежных и российских авторов, и монографии, и множество книг и практических пособий для психологов системы образования, и популярная психология — словом, разнообразие книг, интересных как профессионалам, так и широкому кругу читателей.
Для удобства посетителей сайта все материалы разбиты на несколько десятков конкретно обозначенных разделов, что облегчает поиск нужного товара и интересующих книг. Психологическое консультирование и психотерапия, книги для родителей, литература и пособия по логопедии, нейропсихология, тренинги, метафорические карты, настольные игры – вот лишь некоторые разделы нашего интернет-магазина.
Мы постарались сделать так, чтобы вам было удобно выбирать и заказывать онлайн книги и другие товары. Доставка приобретенной в интернет-магазине продукции осуществляется по Москве курьером, возможен самовывоз из нашего магазина (м. ВДНХ, ул. Ярославская, д. 14, корп. 1). В любые другие регионы России заказы (книг и прочей продукции) доставляются почтой.
Издательство «Генезис»
Основу продукции издательства «Генезис» составляет теоретическая и практическая литература для психологов-профессионалов: книги по психологическому консультированию и терапии, труды классиков психологии, монографии, практические разработки современных зарубежных и российских авторов – сценарии тренингов, методические комплекты, коррекционные и развивающие программы, метафорические карты, плакаты, диски, игры. Много интересного найдется для студентов, для родителей, а также для всех, кому интересен внутренний мир человека.
Издательство существует с 1997 г. и в первое время издавало в основном литературу для психологов системы образования, однако сейчас в ассортименте издательства есть также книги для психологов, работающих в сфере управления персоналом, и ведущих бизнес-тренинги, популярная психологическая, психотерапевтическая литература и многое другое.
Книги издательства всегда отличало высокое качество редактирования – они содержательны, хорошо структурированы, написаны понятно и грамотно.
Издательство также стремится к тому, чтобы полиграфическое качество изданий соответствовало их содержательному уровню. Обложки книг издательства – яркие и запоминающиеся, книги приятно брать в руки.
«Генезис» – это не только издательство, но и магазин психологической литературы, в котором предлагаются как собственные книги издательства, так и психологические книги других издательств. Среди этих издательств есть и крупные, широко известные, чью продукцию можно встретить в любом книжном магазине, а есть и небольшие, но очень хорошие издательства, выпускающие качественную психологическую литературу, которую не так-то просто найти в обычных магазинах.
Важная цель издательства – сделать так, чтобы книги по психологии были доступны всем, кому они нужны. Поэтому магазин издательства «Генезис» предлагает разные способы доставки литературы (курьерская доставка, самовывоз, доставка почтой) и работает как с розничными, так и с оптовыми и мелкооптовыми покупателями. Среди партнеров издательства – надежные и эффективно работающие книготорговые организации.
Издательство предлагает сотрудничество авторам психологической литературы.
Интернет-магазин издательства, а также другая информация об издательстве доступны по адресу: http://www.knigi-psychologia.com/
Ознакомиться с книжной продукцией издательства можно в магазине, находящемся по адресу: г. Москва, ул. Ярославская, д. 14, к. 1. Схему проезда можно посмотреть на сайте издательства. Режим работы магазина – с понедельника по пятницу, с 12 до 20 (без обеда).
Телефоны издательства: (495) 682-60-51 и (495) 682-54-42.
Директор издательства – Мухаматулина Екатерина Александровна.
Главный редактор – Сафуанова Ольга Владимировна.
Новинки
Авторы
Мероприятия
Последняя редакция: 1 октября 2015 г., 16:46, flying_now
Общая психология. Генезис предмета психологической теории.
Дисциплина: Общая психология
Таблица 1.
Научноенаправление
Предмет психологии
Методы исследования
Основные труды
Вклад в науку
1.этап Античная психология — «Психология души»
первые психологические воззрения
конец IV тыс. до н. э.
делается попытка описать механизмы психического
трактовка значения органов чувств для человека
религиозные представления людей
устроителем всего существующего, вселенским архитектором является бог Птах
«Памятник мемфисской теологии»
IV-VI вв.до н.э.
философы школы Пифагора с острова Самое
учение о вечном круговороте душ, о том, что душа прикреплена к телу в порядке наказания
Психология души.
идеи, дух, сознание являются первичными, началом всего существующего, а природа, материя — вторичными, производными от духа, идей, сознания.
мироздание имеет не вещественную, а арифметически-геометрическую структуру
Открытия в математике и акустике.
Геометрия – наука.
Число как начало бытия.
Двойственность бытия.
Астронимия.
530-470 гг. до н. э.
Гераклит
психика — вторичное, производное от материи явление. Все вещи суть модификации огня
Психология души.
Материалистическое понимание психики
Душа, согласно Гераклиту, рождается путем испарения из влаги и, возвращаясь во влажное состояние, гибнет.
460-370 гг. до н. э.
Демокрит
Душа — это материальное вещество, которое состоит из атомов огня, шарообразных, легких и очень подвижных
Психология души.
Материалистическое понимание психики
Все душевные явления Демокрит пытался объяснить физическими и даже механическими причинами.
«Великий мирострой»
«О добродетели»
разработал атомистическую модель мира
384-322 гг. до н.э.
Аристотель
душу нельзя отделить от тела, поскольку она является его формой, способом его организации.
Душа, согласно Аристотелю, — это целесообразно работающая органическая система.
Психология души.
Идеалистические воззрения (Душа.)
Главная сущность души, по Аристотелю, — реализация биологического существования организма.
интеграция достижений античной мысли.
Использовал сложную философскую категорию — «энтелехия», «…душа, необходимо есть сущность в смысле формы естественного тела…»
«О душе»
основателем психологии
создал целостную психологическую систему
выделил три души: растительную, животную и разумную, или человеческую, имеющую божественное происхождение.
(II тыс. до н. э.)
Вед (индийские племена)
понятие «душа» (идеальные, «метафизические» и этические проблемы существование человека )
Психология души.
Этическое воззрение души.
этическими проблемами душевного развития
необходимо совершенствование личности путем правильного поведения
Индуизм
«Яджур-веда»
«Сама-веда»
«Артхартва-веда»
Буддизм, Джайнизм.
(427-347 гг. до н. э.)
Платоном
душа как самостоятельная субстанция
Идеалистические воззрения. Психология души.
«Апология Сократа», «Горгий», «Протагор», «Платон», «Федр»
раскрыл другую сторону человеческой психики — морально-этическую.
2.этап
«Психология сознания»
1569-1650 гг.
Рене Декарта
(Ренатус Картезиус)
резко противопоставляет душу и тело, утверждая, что существуют две независимые друг от друга субстанции — материя и дух.
Психология души. «Дуализм»
методом логического рассуждения;
объективный метод,
«Рассуждение о методе»
«Первоначала философии»
родоначальником рационалистической философии «картезианская философия», или «картезианская интуиция»
1632-1704 гг.
Дж. Локк
развил тезис Декарта о непосредственном постижении мыслей;
существует два источника всех знаний: объекты внешнего мира и деятельность нашего собственного ума
Психология сознания.
деятельностью ума Локк понимал мышление, сомнение, веру, рассуждения, познание, желание.
метода интроспекции;
объективный метод,
«Исследование о человеческом познании»
сенсуалистический материализм
1711-1776 гг.
Давид Юм
основополагающего принципа — ассоциация
Психология сознания.
все сложные образования сознания, включая сознание своего «я», а также объекты внешнего мира являются лишь «пучками представлений», объединенных между собой внешними связями — ассоциациями
метода интроспекции;
объективный метод,
«Исследование о человеческом познании»
ассоциативная психология;
труды Юма в определенной степени предопределили возникновение экспериментальных методов психологии.
3.этап
Психология поведения
1878-1958 гг.
Дж. Уотсон
задача психологии в исследовании поведения живого существа, адаптирующегося к окружающей его среде.
Важнее всего в человеке для окружающих его людей поступки и само поведение этого человека.
Психология поведения.
Эксперимент (основанного на отличных от интроспективной методологии принципах, что принесло практические плоды в виде экономической заинтересованности в развитии психологической науки)
Концепция условных рефлексов в качестве естественнонаучной базы своей психологической теории.
объективный метод,
«Психология с точки зрения бихевиориста»
«Бихевиоризм»
«Психологический уход за ребенком».
разделил психическое и его внешнее проявление — поведение.
4этап. Отечественая психология
XVIII в.
М. В. Ломоносов
материалистическое понимание ощущений и идей, говорит о первичности материи.
Психологические воззрения
Эксперимент
«О твердости и жидкости тел»
«Теория атмосферного электричества»
«Российская грамматика»
теории света
картография
вторая половина XIX в.
И. М. Сеченов
развивает материалистическое понимание ощущений и идей, говорит о первичности материи.
необходимо различать познавательные (умственные) процессы и умственные качества человека
Психологические воззрения.
концепции психофизического параллелизма.
Эксперимент
«Рефлексы головного мозга».
вклад в развитие психофизиологии, нейропсихологии, физиологии высшей нервной деятельности.
оказал серьезное влияние на становление в России экспериментальной психологии
Генезис высших психических функций | Мир Психологии
Генезис высших психических функций
Глава пятая
Третий план нашего исследования ближе всего стоит к принятому нами историческому способу рассмотрения высших форм поведения. Анализ и структура высших психических процессов приводят нас вплотную к выяснению основного вопроса всей истории культурного развития ребенка, к выяснению генезиса высших форм поведения, т.е. происхождения и развития тех психических форм, которые и составляют предмет нашего изучения. Психология, по выражению С. Холла, ставит генетическое объяснение выше логического. Ее интересует вопрос, откуда и куда, т.е. из чего произошло и во что стремится превратиться данное явление.
Историческая форма объяснения представляется психологугенетисту высшей из всех возможных форм. Ответить на вопрос, что представляет собой данная форма поведения, означает для него раскрыть ее происхождение, историю развития, приведшего к настоящему моменту. В этом смысле, как мы уже говорили словами П.П. Блонского, поведение может быть понято только как история поведения. Но, прежде чем перейти к генезису высших форм поведения, мы должны выяснить само понятие развития, подобно тому как мы это делали в главах, посвященных анализу и структуре высших психических процессов. Дело в том, что в психологии, из-за ее глубокого кризиса, все понятия стали многосмысленными и смутными и изменяются в зависимости от основной точки зрения на предмет, которую избирает исследователь. В различных системах психологии, ориентирующихся на различные методологические принципы, все основные категории исследования, в том числе и категория генезиса, приобретают различное значение. Другое соображение, заставляющее нас остановиться на проблеме генезиса, состоит в том, что своеобразие того процесса развития высших форм поведения, который составляет предмет нашего исследования, недостаточно еще осознано современной психологией. Культурное развитие ребенка, как мы уже пытались установить выше, представляет совершенно новый план детского развития, который не только еще недостаточно изучен, но обычно даже не выделен в детской психологии.
Если мы обратимся к понятию развития, как оно представлено в современной психологии, то увидим, что в нем содержится много моментов, которые современные исследования должны преодолеть. Первым таким моментом, печальным пережитком донаучного мышления в психологии, является скрытый, остаточный преформизм в теории детского развития. Старые представления и ошибочные теории, исчезая из науки, оставляют после себя следы, остатки в виде привычек мысли. Несмотря на то что в общей формулировке в науке о ребенке давно отброшен тот взгляд, согласно которому ребенок отличается от взрослого только пропорциями тела, только масштабом, только размерами, это представление продолжает существовать в скрытом виде в детской психологии. Ни одно сочинение по детской психологии не может сейчас открыто повторить те давно опровергнутые истины, будто ребенок — это взрослый в миниатюре, а между тем указанный взгляд продолжает держаться до сих пор и в скрытом виде содержится почти в каждом психологическом исследовании.
Достаточно сказать, что важнейшие главы детской психологии (учение о памяти, о внимании, о мышлении) только на наших глазах начинают выходить из этого тупика и осознавать процесс психического развития во всей его реальной сложности. Но в огромном большинстве научные исследования в скрытом виде продолжают держаться взгляда, который объясняет развитие ребенка как чисто количественное явление.
Такого взгляда держались когда-то в эмбриологии. Теория, основанная на этом взгляде, называется преформизмом, или теорией предобразования. Сущность ее составляет учение, будто в зародыше заранее уже заключен совершенно законченный и сформированный организм, но только в уменьшенных размерах. В семени дуба, например, согласно этой теории, содержится весь будущий дуб с его корнями, стволом и ветвями, но только в миниатюре. В семени человека заключен уже сформированный человеческий организм, но в чрезвычайно уменьшенных размерах.
Весь процесс развития, с этой точки зрения, может быть представлен чрезвычайно просто: он состоит в чисто количественном увеличении размеров того, что дано с самого начала в зародыше; зародыш постепенно увеличивается, вырастает и таким образом превращается в зрелый организм. Указанная точка зрения давно оставлена в эмбриологии и представляет только исторический интерес. Между тем в психологии эта точка зрения продолжает существовать на практике, хотя в теории она также давно оставлена.
Психология теоретически давно отвергла мысль, что развитие ребенка есть чисто количественный процесс. Все согласны, что здесь перед нами процесс гораздо более сложный, который не исчерпывается одними количественными изменениями. Но на практике психологии предстоит еще раскрыть этот сложный процесс развития во всей его реальной полноте и уловить все те качественные изменения и превращения, которые переделывают поведение ребенка.
Совершенно справедливо Э. Клапаред в предисловии к исследованиям Ж. Пиаже говорит, что проблема детского мышления в психологии обычно ставилась как чисто количественная проблема и только новые работы позволяют свести ее к проблеме качества. Обычно, говорит Клапаред, в развитии детского интеллекта видели результат определенного количества сложений и вычитаний, нарастание нового опыта и освобождение от некоторых ошибок. Современные исследования открывают перед нами, что детский интеллект постепенно меняет свой характер. Если мы хотели бы одним общим положением охарактеризовать то основное требование, которое выдвигает проблема развития перед современным исследованием, мы могли бы сказать, что это требование заключается в изучении положительного своеобразия поведения ребенка. Последнее нуждается в некотором пояснении.
Все психологические методы, применяемые до сих пор к исследованиям поведения нормального и аномального ребенка, несмотря на огромное многообразие и различие, существующее между ними, обладают одной общей чертой, которая их роднит в определенном отношении. Эта черта заключается в негативной характеристике ребенка, которая достигается при помощи существующих методов. Все методы говорят нам о том, чего нет у ребенка, чего не хватает ребенку по сравнению со взрослым и ненормальному ребенку по сравнению с нормальным. Перед нами всегда негативный снимок с личности ребенка. Такой снимок еще ничего не говорит нам о положительном своеобразии, которое отличает ребенка от взрослого и ненормального ребенка от нормального.
Перед психологией встает сейчас задача — уловить реальное своеобразие поведения ребенка во всей полноте и богатстве его действительного выражения и дать позитивный снимок с личности ребенка. Но позитивный снимок возможен только в том случае, если мы коренным образом изменим наше представление о детском развитии и примем во внимание, что оно представляет собой сложный диалектический процесс, который характеризуется сложной периодичностью, диспропорцией в развитии отдельных функций, метаморфозами или качественным превращением одних форм в другие, сложным сплетением процессов эволюции и инволюции, сложным скрещиванием внешних и внутренних факторов, сложным процессом преодоления трудностей и приспособления.
Второй момент, преодоление которого должно расчистить дорогу современному генетическому исследованию, состоит в скрытом эволюционизме, до сих пор господствующем в детской психологии. Эволюция, или развитие путем постепенного и медленного накопления отдельных изменений, продолжает рассмаиваться как единственная форма детского развития, исчерпывающая все известные нам процессы, входящие в состав этого общего понятия. По существу в рассуждениях о детском развитии сквозит скрытая аналогия с процессами роста растения.
Детская психология ничего не хочет знать о тех переломных, скачкообразных и революционных изменениях, которыми полна история детского развития и которые так часто встречаются в истории культурного развития. Наивному сознанию революция и эволюция кажутся несовместимыми. Для него историческое развитие продолжается только до тех пор, пока идет по прямой линии. Там, где наступает переворот, разрыв исторической ткани, скачок, наивное сознание видит только катастрофу, провал и обрыв. Там для него история прекращается на весь срок, пока снова не выйдет на прямую и ровную дорогу.
Научное сознание, напротив, рассматривает революцию и эволюцию как две взаимно связанные и предполагающие друг друга формы развития. Сам скачок, совершаемый в развитии ребенка в момент подобных изменений, научное сознание рассматривает как определенную точку во всей линии развития в целом.
Рассмотренное положение имеет особенно серьезное значение по отношению к истории культурного развития, ибо, как мы видим дальше, история культурного развития совершается в громадной степени за счет подобных переломных и скачкообразных изменений, наступающих в развитии ребенка. Сущность культурного развития состоит в столкновении развитых, культурных форм поведения, с которыми встречается ребенок, с примитивными формами, которые характеризуют его собственное поведение.
Ближайшим выводом из изложенного является изменение общепринятой точки зрения на процессы психического развития ребенка и представления о характере построения и протекания этих процессов. Обычно все процессы детского развития представляют как стереотипно протекающие процессы. Образцом развития, как бы его моделью, с которой сравнивают все другие формы, считается эмбриональное развитие. Этот тип развития наименее зависит от внешней среды, к нему с наибольшим правом может быть отнесено Слово «развитие» в его буквальном смысле, т.е. развертывание заключенных в зародыше в свернутом виде возможностей. Между тем эмбриональное развитие не может рассматриваться как модель всякого процесса развития в строгом смысле слова. Оно скорее может быть представлено как его результат или итог. Это уже устоявшийся, законченный процесс, более или менее стереотипно протекающий.
Стоит только сравнить с процессом эмбрионального развития процесс эволюции животных видов, реальное происхождение видов, как его раскрыл Дарвин, чтобы увидеть коренное различие между одним и другим типами развития. Виды возникали и гибли, видоизменялись и развивались в борьбе за существование, в процессе приспособления к окружающей среде. Если бы мы хотели провести аналогию между процессом детского развития и каким-либо другим процессом развития, мы должны были бы выбрать скорее эволюцию животных видов, чем эмбриональное развитие. Детское развитие менее всего напоминает стереотипный, укрытый от внешних влияний процесс; здесь в живом приспособлении к внешней среде совершается развитие и изменение ребенка. В этом процессе возникают новые и новые формы, а не просто стереотипно воспроизводятся звенья уже заранее сложившейся цепи. Всякая новая стадия в развитии эмбриона, заключенная уже в потенциальном виде в предшествовавшей, наступает благодаря развертыванию внутренних потенций; здесь происходит не столько процесс развития, сколько процесс роста и созревания. Эта форма, этот тип также представлен в психическом развитии ребенка; но в истории культурного развития гораздо большее место занимает вторая форма, второй тип, который состоит в том, что новая стадия возникает не из развертывания потенций, заключенных в предшествовавшей стадии, а из реального столкновения организма и среды и живого приспособления к среде.
В современной детской психологии мы имеем две основные точки зрения на процессы детского развития. Одна из них восходит к Ж.-Б. Ламарку, другая — к Дарвину. Бюлер справедливо говорит, что надо смотреть на книгу К. Коффки о психическом развитии ребенка как на попытку дать идее Ламарка современное психологическое выражение.
Сущность точки зрения Коффки заключается в том, что для объяснения низших форм поведения пользуются принципом, которым обычно объясняются более высокие формы поведения, тогда как до сих пор, наоборот, на высшую ступень переносили принцип, с помощью которого психолог объяснял примитивное поведение. Но этот прием, говорит Коффка, ничего общего с антропоморфизмом не имеет. Одним из важных методологических завоеваний современной психологии является устанавливаемое в ней чрезвычайно важное различие между наивным и критическим антропоморфизмом. В то время как наивная теория исходит из признания тождества функций на различных ступенях развития, критический антропоморфизм исходит из высших форм, известных нам у человека, прослеживает ту же психологическую структуру и ее развитие, спускаясь вниз по лестнице психического развития. К последней теории примыкают работы Келера и Коффки. Все же, несмотря на важную поправку, перед нами теории, переносящие принцип объяснения, найденный при исследовании высших форм поведения, на изучение низших.
В отличие от этого Бюлер смотрит на свой опыт построения детской психологии как на попытку продолжить идею Дарвина. Если Дарвину, была известна только одна область развития, то Бюлер указывает две новые области, в которых, по его мнению, находит свое подтверждение и оправдание выдвинутый Дарвином принцип отбора. Правда. Бюлер пытается соединить точку зрения Дарвина и Ламарка, применяя слова Э. Геринга, который говорит, что из двух теорий — Ламарка и Дарвина, — приведенных с гениальной односторонностью, у него возникла одна общая картина истории развития всего живущего. С ним случилось то, что бывает со смотрящим в стереоскоп, когда смотрящий сначала получает два впечатления, скрещивающихся и борющихся между собой, пока вдруг они не соединятся в один ясный образ, установленный по третьему измерению. Продолжая это сравнение, Бюлер говорит, что неодарвинизм без Ламарка слишком слеп и неподвижен, но и Ламарк без Дарвина не дорос до разнообразного богатства жизненных форм. Теория развития сделает действительный шаг вперед, когда в психологии детей очевиднее, чем до сих пор, выяснится, каким образом эти два исследователя связаны друг с другом.
Итак, мы видим, что самое понятие детского развития не является сколько-нибудь единым у различных исследователей. В учении Бюлера нам представляется чрезвычайно плодотворной его мысль о различных областях развития. По его словам, Дарвин знал в сущности только одну область, в то время как сам Бюлер указывает на три отграниченные друг от друга области. По мнению Бюлера, развитие поведения проходит три основные ступени и процесс развития поведения состоит в том, что меняется место действия отбора. Дарвинское приспособление выполняется посредством устранения менее благоприятно организованных индивидов; тут речь идет о жизни и смерти. Приспособление посредством дрессировки совершается внутри индивида; оно сортирует старые и создает новые способы поведения. Место действия его есть область телесных деятельностей, и ценой их уже являются не жизни, а движения тела, производимые в избытке, расточаемые тем же способом, как это делает природа. К. Бюлер указывает на дальнейшую возможность развития. Если движения тела еще слишком дорого обходятся или по какой-либо причине недостаточны, то место действия отбора должно быть перенесено в область представления и мыслей.
Нужно, говорит Бюлер, привести к одному знаменателю как высшие формы человеческого изобретения и открытия, так и примитивнейшие, с которыми мы познакомились у ребенка и у шимпанзе, и теоретически понять в них тождественное. Таким образом, понятие внутреннего пробования, или проб в мысли, которые являются эквивалентом пробы на самом объекте, позволяет Бюлеру распространить формулу дарвинского отбора на всю область психологии человека. Возникновение целесообразного в трех различных сферах (инстинкт, дрессура, интеллект), в трех местах действия принципа отбора объясняется исходя из единого принципа. Эта идея, по мнению автора, является последовательным продолжением современной теории развития дарвинского направления.
Мы хотели бы остановиться несколько подробнее на теории трех ступеней в развитии поведения. Она действительно охватывает все главнейшие формы поведения, распределяя их по трем ступеням эволюционной лестницы. Первую ступень образует инстинкт, или врожденный, наследственный фонд способов поведения. Над ней возвышается вторая ступень, которую вместе с Бюлером можно назвать ступенью дрессуры или, иначе, ступенью навыков или условных рефлексов, т.е. заученных, приобретенных в личном опыте условных реакций. И, наконец, еще выше надстраивается третья ступень, ступень интеллекта, или интеллектуальных реакций, выполняющих функцию приспособления к новым условиям и представляющих, по выражению Торндайка, организованную иерархию навыков, направленных на разрешение новых задач.
Спорной до сих пор остается в схеме третья ступень, наименее изученная и наиболее сложная. Многие авторы пытаются ограничить схему развития двумя только ступенями, считая, что интеллектуальные реакции не должны выделяться в особый класс, а могут рассматриваться как особо сложные формы навыков. Нам думается, что современное экспериментальное исследование дает все основания считать этот спор решенным в пользу признания третьей ступени. Интеллектуальная реакция, отличающаяся многими существенными чертами происхождения функционирования, даже в области поведения животных, как показали исследования Келера, не может быть поставлена в один ряд с механическим образованием навыков, возникающих путем проб и ошибок.
Правда, нельзя забывать того, что ступень интеллектуальных реакций самым тесным образом связана со второй ступенью в развитии поведения и опирается на нее. Но это явление общего порядка, которое одинаково приложимо и ко второй ступени в развитии поведения.
Мы считаем одной из самых плодотворных в теоретическом отношении мысль, которой на наших глазах овладевает генетическая психология, о том, что структура развития поведения в некотором отношении напоминает геологическую структуру земной коры. Исследования установили наличие генетически различных пластов в поведении человека. В этом смысле «геология» человеческого поведения, несомненно, является отражением «геологического» происхождения и развития мозга.
Если мы обратимся к истории развития мозга, мы увидим то, что Кречмер называет законом напластования в истории развития. При развитии высших центров низшие, более старые в истории развития центры не просто отходят в сторону, но работают далее в общем союзе как подчиненные инстанции под управлением высших, так что при неповрежденной нервной системе обычно их нельзя определить отдельно.
Вторая закономерность в развитии мозга состоит в том, что можно назвать переходом функций вверх. Подчиненные центры не удерживают своего первоначального в истории развитии типа функционирования полностью, но отдают существенную часть прежних функций вверх, новым, над ними строящимся центрам. Только при повреждении высших центров или их функциональном ослаблении подчиненная инстанция становится самостоятельной и показывает нам элементы древнего типа функционирования, которые остались у нее, полагает Кречмер.
Мы видим, таким образом, что низшие центры сохраняются как подчиненные инстанции при развитии высших и что развитие мозга идет по законам напластования и надстройки новых этажей над старыми. Старая ступень не отмирает, когда возникает новая, а снимается новой, диалектически отрицается ею, переходя в нее и существуя в ней. Точно так же инстинкт не уничтожается, а снимается в условных рефлексах как функция древнего мозга в функциях нового. Так и условный рефлекс снимается в интеллектуальном действии, одновременно существуя и не существуя в нем. Перед наукой стоят две совершенно равноправные задачи: уметь раскрыть низшее в высшем, а также уметь раскрыть вызревание высшего из низшего.
В последнее время Вернер высказывал мысль, что поведение современного взрослого культурного человека может быть понято только «геологически», так как и в поведении сохранились различные генетические пласты, отражающие все ступени, пройденные человеком в его психическом развитии. Психологическая структура, говорит он, характеризуется не одним, а многими генетическими наслаиваемыми друг на друга пластами. Поэтому даже отдельный индивид при генетическом рассмотрении обнаруживает в поведении определенные фазы генетически уже законченных процессов развития. Только психология элементов представляет себе поведение человека как единую замкнутую сферу. В отличие от этого новая психология устанавливает, что человек в поведении обнаруживает генетически различные ступени. В раскрытии генетической многослойности поведения Вернер видит главную задачу современного исследования.
Вся книга Блонского «Психологические очерки» построена на генетическом анализе поведения человека. Новая заключенная в ней мысль состоит в том, что ежедневное поведение человека может быть понято только в том случае, если раскрыть в нем наличие четырех основных генетических ступеней, которые прошло в свое время развитие поведения вообще. Блонский различает спящую жизнь как примитивное состояние жизни, примитивное бодрствование, жизнь неполного бодрствования и вполне бодрствующую жизнь. Эта единая генетическая схема охватывает как ежедневное поведение человека, так и многотысячелетнюю историю его развития, вернее сказать, она рассматривает ежедневное поведение человека с точки зрения его многотысячелетней истории и дает прекрасный образец того, как историческая точка зрения может быть приложена к общей психологии, к анализу поведения современного человека.
История развития знаков приводит нас, однако, к гораздо более общему закону, управляющему развитием поведения. П. Жанэ называет его фундаментальным законом психологии. Сущность закона состоит в том, что в процессе развития ребенок начинает применять по отношению к себе те самые формы поведения, которые первоначально другие применяли по отношению к нему. Ребенок сам усваивает социальные формы поведения и переносит их на самого себя. В применении к интересующей нас области мы могли бы сказать, что нигде правильность этого закона не проступает так, как при употреблении знака.
Знак всегда первоначально является средством социальной связи, средством воздействия на других и только потом оказывается средством воздействия на себя. В психологии выяснено много фактических связей и зависимостей, которые образуются этим путем. Укажем, например, на обстоятельство, которое в свое время было высказано Дж. Болдуином и в настоящее время развито в исследовании Пиаже. Исследование показало, что несомненно существует генетическая связь между спорами ребенка и его размышлениями. Сама логика ребенка подтверждает ее обоснование. Доказательства возникают первоначально в споре между детьми и только затем переносятся внутрь самого ребенка, связанные формой проявления его личности.
Только с нарастающей социализацией детской речи и всего детского опыта происходит развитие детской логики. Интересно отметить, что в развитии поведения ребенка меняется генетическая роль коллектива, высшие функции мышления сначала проявляются в коллективной жизни детей в виде спора и только затем приводят к развитию размышления в поведении самого ребенка.
Ж. Пиаже установил, что именно наступающий перелом при переходе из дошкольного к школьному возрасту приводит к изменению форм коллективной деятельности. На основе этого изменяется и собственное мышление ребенка. Размышление, говорит Пиаже, можно рассматривать как внутренний спор. Стоит еще напомнить речь, которая первоначально является средством общения с окружающими и лишь позже, в форме внутренней речи, — средством мышления, для того чтобы стала совершенно ясной применимость этого закона к истории культурного развития ребенка.
Но мы сказали бы очень мало о значении закона, управляющего поведением, если бы не сумели показать конкретных форм, в которых он проявляется в области культурного развития. Здесь мы можем связать действие этого закона с теми четырьмя стадиями в развитии поведения, которые наметили выше. Если принять во внимание упомянутый закон, станет совершенно ясно, почему все внутреннее в высших психических функциях было некогда внешним. Если правильно, что знак первоначально является средством общения и лишь затем становится средством поведения личности, то совершенно ясно: культурное развитие основано на употреблении знаков и включение их в общую систему поведения протекало первоначально в социальной, внешней форме.
В общем мы могли бы сказать, что отношения между высшими психическими функциями были некогда реальными отношениями между людьми. Я отношусь к себе так, как люди относятся ко мне. Как словесное мышление представляет перенесение речи внутрь, как размышление есть перенесение спора внутрь, так и психически функция слова, по Жанэ, не может быть объяснена иначе, если мы не привлечем для объяснения более обширную систему, чем сам человек. Первоначальная психология функций слова — социальная функция, и, если мы хотим проследить, как функционирует Слово в поведении личности, мы должны рассмотреть, как оно прежде функционировало в социальном поведении людей.
Мы не предрешаем сейчас вопроса о том, насколько верна по существу предложенная Жанэ теория речи. Мы хотим только сказать, что метод исследования, который он предлагает, совершенно бесспорный с точки зрения истории культурного развития ребенка. Слово, по Жанэ, первоначально было командой для других, потом прошло сложную историю, состоящую из подражаний, изменений функций и т.д., и лишь постепенно отделилось от действия. По Жанэ, Слово всегда есть команда, потому-то оно и является основным средством овладения поведением. Поэтому, если мы хотим генетически выяснить, откуда возникает волевая функция слова, почему Слово подчиняет себе моторную реакцию, откуда взялась власть слова над поведением, мы неизбежно придем как в онтогенезе, так и в филогенезе к реальной функции командования. Жанэ говорит, что за властью слова над психическими функциями стоит реальная власть начальника и подчиненного, отношение психических функций генетически должно быть отнесено к реальным отношениям между людьми.
Регулирование посредством слова чужого поведения постепенно приводит к выработке вербализованного поведения самой личности. Но ведь речь является центральной функцией социальной связи и культурного поведения личности. Поэтому история личности особенно поучительна, и переход извне внутрь, от социальной к индивидуальной функции, проступает здесь с особенной ясностью. Недаром Уотсон видит существенное отличие внутренней речи от внешней в том, что первая служит для индивидуальных, а не для социальных форм приспособления.
Если мы обратимся к средствам социальной связи, мы узнаем, что и отношения между людьми бывают двоякого рода. Возможны неопосредованные и опосредованные отношения между людьми. Неопосредованные основаны на инстинктивных формах выразительного движения и действия. Когда Келер описывает обезьяну, желающую добиться того, чтобы другая обезьяна пошла с ней вместе, как она смотрит ей в глаза, подталкивает ее и начинает действие, к которому она хочет склонить свою подругу, перед нами классический пример непосредственной связи социального характера. В описаниях социального поведения шимпанзе приводятся многочисленные примеры, когда одно животное воздействует на другое или посредством действий, или посредством инстинктивных автоматических выразительных движений. Контакт устанавливается через прикосновение, через крик, через взгляд. Вся история ранних форм социального контакта у ребенка полна примерами подобного рода, и здесь мы видим контакт, устанавливаемый посредством крика, хватания за рукав, взглядов.
На более высокой ступени развития выступают, однако, опосредованные отношения между людьми, существенным признаком таких отношений служит знак, с помощью которого устанавливается общение. Само собой разумеется, что высшая форма общения, опосредованная знаком, вырастает из естественных форм непосредственного общения, но все же последние существенно отличаются от нее.
Таким образом, подражание и разделение функций между людьми — основной механизм модификации и трансформации функций самой личности. Если мы рассмотрим первоначальные формы трудовой деятельности, то увидим, что там функция исполнения и функция управления разделены. Важный шаг в эволюции труда следующий: то, что делает надсмотрщик, и то, что делает раб, соединяются в одном человеке. Это, как мы увидим ниже, основной механизм произвольного внимания и труда.
Все культурное развитие ребенка проходит три основные ступени, которые, пользуясь расчленением Гегеля, можно описать в следующем виде. Рассмотрим для примера историю развития указательного жеста, который, как мы увидим, играет чрезвычайно важную роль в развитии речи ребенка и является вообще в значительной степени древней основой всех высших форм поведения. Вначале указательный жест представляет собой просто неудавшееся хватательное движение, направленное на предмет и обозначающее предстоящее действие. Ребенок пытается схватить слишком далеко отстоящий предмет, его руки, протянутые к предмету, остаются висеть в воздухе, пальцы делают указательные движения. Эта ситуация исходная для дальнейшего развития. Здесь впервые возникает указательное движение, которое мы вправе условно назвать указательным жестом в себе. Здесь есть движение ребенка, объективно указывающее на предмет, и только.
Когда мать приходит на помощь ребенку и осмысливает его движение как указание, ситуация существенно изменяется. Указательный жест становится жестом для других. В ответ на неудавшееся хватательное движение ребенка возникает реакция не со стороны предмета, а со стороны другого человека. Первоначальный смысл в неудавшееся хватательное движение вносят, таким образом, другие. И только впоследствии, на основе того, что неудавшееся хватательное движение уже связывается ребенком со всей объективной ситуацией, он сам начинает относиться к этому движению как к указанию.
Здесь изменяется функция самого движения: из движения, направленного на предмет, оно становится движением, направленным на другого человека, средством связи; хватание превращается в указание. Благодаря этому само движение редуцируется, сокращается, и вырабатывается та форма указательного жеста, про которую мы вправе сказать, что это уже жест для себя. Однако жестом для себя движение становится не иначе, как будучи сначала указанием в себе, т.е. обладая объективно всеми необходимыми функциями для указания и жеста для других, т.е. будучи осмыслено и понято окружающими людьми как указание.
Ребенок приходит, таким образом, к осознанию своего жеста последним. Его значение и функции создаются вначале объективной ситуацией и затем окружающими ребенка людьми. Указательный жест раньше начинает указывать движением то, что понимается другими, и лишь позднее становится для самого ребенка указанием.
Таким образом, можно сказать, что через других мы становимся самими собой, и это правило относится не только к личности в целом, но и к истории каждой отдельной функции. В этом и состоит сущность процесса культурного развития, выраженная в чисто логической форме. Личность становится для себя тем, что она есть в себе, через то, что она предъявляет для других. Это и есть процесс становления личности. Здесь впервые в психологии ставится во всей важности проблема соотношения внешних и внутренних психических функций. Здесь, как уже сказано, становится ясным, почему с необходимостью все внутреннее в высших формах было внешним, т.е. было для других тем, чем ныне является для себя. Всякая высшая психическая функция необходимо проходит через внешнюю стадию развития, потому что функция является первоначально социальной. Это — центр всей проблемы внутреннего и внешнего поведения. Многие авторы давно уже указывали на проблему интериоризации, перенесения поведения внутрь. Кречмер видит в этом закон нервной деятельности. Бюлер всю эволюцию поведения сводит к тому, что область отбора полезных действий переносится извне внутрь.
Но мы имеем в виду другое, когда говорим о внешней стадии в истории культурного развития ребенка. Для нас сказать о процессе «внешний» — значит сказать «социальный». Всякая высшая психическая функция была внешней потому, что она была социальной раньше, чем стала внутренней, собственно психической, функцией, она была прежде социальным отношением двух людей. Средство воздействия на себя первоначально есть средство воздействия на других или средство воздействия других на личность.
У ребенка шаг за шагом можно проследить смену трех основных форм развития в функциях речи. Раньше всего Слово должно обладать смыслом, т.е. отношением к вещи, должна быть объективная связь между словом и тем, что оно означает. Если ее нет, дальнейшее развитие слова невозможно. Далее объективная связь между словом и вещью должна быть функционально использована взрослым как средство общения с ребенком. Затем только Слово становится осмысленным и для самого ребенка. Значение слова, таким образом, прежде объективно существует для других и только впоследствии начинает существовать для самого ребенка. Все основные формы речевого общения взрослого с ребенком позже становятся психическими функциями.
Мы можем сформулировать общий генетический закон культурного развития в следующем виде: всякая функция в культурном развитии ребенка появляется на сцену дважды, в двух планах, сперва — социальном, потом — психологическом, сперва между людьми, как категория интерпсихическая, затем внутри ребенка, как категория интрапсихическая. Это относится одинаково к произвольному вниманию, к логической памяти, к образованию понятий, к развитию воли. Мы вправе рассматривать высказанное положение как закон, но, разумеется, переход извне внутрь трансформирует сам процесс, изменяет его структуру и функции. За всеми высшими функциями, их отношениями генетически стоят социальные отношения, реальные отношения людей. Отсюда одним из основных принципов нашей воли является принцип разделения функций между людьми, разделение надвое того, что сейчас слито в одном, экспериментальное развертывание высшего психического процесса в ту драму, которая происходит между людьми.
Мы поэтому могли бы обозначить основной результат, к которому приводит нас история культурного развития ребенка, как социогенез высших форм поведения.
Слово «социальное» в применении к нашему предмету имеет большое значение. Прежде всего, в самом широком смысле оно обозначает, что все культурное является социальным. Культура и есть продукт социальной жизни и общественной деятельности человека, и потому сама постановка проблемы культурного развития поведения уже вводит нас непосредственно в социальный план развития. Далее, можно было бы указать на то, что знак, находящийся вне организма, как и орудие, отделен от личности и служит по существу общественным органом или социальным средством. Еще, далее, мы могли бы сказать, что все высшие функции сложились не в биологии, не в истории чистого филогенеза, а сам механизм, лежащий в основе высших психических функций, есть слепок с социального. Все высшие психические функции суть интериоризованные отношения социального порядка, основа социальной структуры личности. Их состав, генетическая структура, способ действия, одним словом, вся их природа социальна; даже превращаясь в психические процессы, она остается квазисоциальной. Человек и наедине с собой сохраняет функции общения.
Изменяя известное положение Маркса, мы могли бы сказать, что психическая природа человека представляет совокупность общественных отношений, перенесенных внутрь и ставших функциями личности и формами ее структуры. Мы не хотим сказать, что именно таково значение положения Маркса, но мы видим в этом положении наиболее полное выражение всего того, к чему приводит нас история культурного развития.
В связи с высказанными здесь мыслями, которые в суммарной форме передают основную закономерность, наблюдаемую нами в истории культурного развития и непосредственно связанную с проблемой детского коллектива, мы видели: высшие психические функции, например функция слова, раньше были разделены и распределены между людьми, потом стали функциями самой личности. В поведении, понимаемом как индивидуальное, невозможно было бы ожидать ничего подобного. Прежде из индивидуального поведения психологи пытались вывести социальное. Исследовали индивидуальные реакции, найденные в лаборатории и затем в коллективе, изучали, как меняется реакция личности в обстановке коллектива.
Такая постановка проблемы, конечно, совершенно законна, но она охватывает генетически вторичный слой в развитии поведения. Первая задача анализа — показать, как из форм коллективной жизни возникает индивидуальная реакция. В отличие от Пиаже мы полагаем, что развитие идет не к социализации, а к превращению общественных отношений в психические функции. Поэтому вся психология коллектива в детском развитии представляется в совершенно новом свете. Обычно спрашивают, как тот или иной ребенок ведет себя в коллективе. Мы спрашиваем, как коллектив создает у того или иного ребенка высшие психические функции.
Раньше предполагали, что функция есть у индивида в готовом, полуготовом или зачаточном виде, в коллективе она развертывается, усложняется, повышается, обогащается или, наоборот, тормозится, подавляется и т.д. Ныне мы имеем основания полагать, что в отношении высших психических функций дело должно быть представлено диаметрально противоположно. Функции сперва складываются в коллективе в виде отношений детей, затем становятся психическими функциями личности. В частности, прежде считали, что каждый ребенок способен размышлять, приводить доводы, доказывать, искать основания для какого-нибудь положения. Из столкновений подобных размышлений рождается спор. Но дело фактически обстоит иначе. Исследования показывают, что из спора рождается размышление. К тому же самому приводит нас изучение и всех остальных психических функций.
При обсуждении постановки нашей проблемы и разработке метода исследования мы имели уже случай выяснить огромное значение сравнительного способа изучения нормального и ненормального ребенка для всей истории культурного развития. Мы видели, что это основной прием исследования, которым располагает современная генетическая психология и который позволяет сопоставить конвергенцию естественной и культурной линий в развитии нормального ребенка с дивергенцией тех же двух линий в развитии ненормального ребенка. Остановимся несколько подробнее на том значении, какое имеют найденные нами основные положения относительно анализа, структуры и генезиса культурных форм поведения для психологии ненормального ребенка.
Начнем с основного положения, которое нам удалось установить при анализе высших психических функций и которое состоит в признании естественной основы культурных форм поведения. Культура ничего не создает, она только видоизменяет природные данные сообразно с целями человека. Поэтому совершенно естественно, что история культурного развития ненормального ребенка будет пронизана влияниями основного дефекта или недостатка ребенка. Его природные запасы — эти возможные элементарные процессы, из которых должны строиться высшие культурные приемы поведения, — незначительны и бедны, а потому и сама возможность возникновения и достаточно полного развития высших форм поведения оказывается для такого ребенка часто закрытой именно из-за бедности материала, лежащего в основе других культурных форм поведения. Указанная особенность заметна на детях с общей задержкой в развитии, т.е. на умственно отсталых детях. Как мы вспоминаем, в основе культурных форм поведения лежит известный обходный путь, который складывается из простейших, элементарных связей. Этот чисто ассоциативный подстрой высших форм поведения, фундамент, на котором они возникают, фон, из которого они питаются, у умственно отсталого ребенка с самого начала ослаблен.
Второе положение, найденное нами в анализе, вносит существенное дополнение к сказанному сейчас, а именно: в процессе культурного развития у ребенка происходит замещение одних функций другими, прокладывание обходных путей, и это открывает перед нами совершенно новые возможности в развитии ненормального ребенка. Если такой ребенок не может достигнуть чего-нибудь прямым путем, то развитие обходных путей становится основой его компенсации. Ребенок начинает на окольных путях добиваться того, чего он не мог достигнуть прямо. Замещение функций — действительно основа всего культурного развития ненормального ребенка, и лечебная педагогика полна примеров таких обходных путей и такого компенсирующего значения культурного развития.
Третье положение, которое мы нашли выше, гласит: основу структуры культурных форм поведения составляет опосредованная деятельность, использование внешних знаков в качестве средства дальнейшего развития поведения. Таким образом, выделение функций, употребление знака имеют особо важное значение во всем культурном развитии. Наблюдения над ненормальным ребенком показывают: там, где эти функции сохраняются в неповрежденном виде, мы действительно имеем более или менее благополучное компенсаторное развитие ребенка, там, где они оказываются задержанными или пораженными, и культурное развитие ребенка страдает. В. Элиасберг на основе своих опытов выдвинул общее положение: употребление вспомогательных средств может служить надежным критерием дифференциации диагноза, позволяющим отличить любые формы ослабления, недоразвития, нарушения и задержки интеллектуальной деятельности от безумия. Таким образом, умение употреблять знаки в качестве вспомогательного средства поведения исчезает, по-видимому, только вместе с наступлением безумия.
Наконец, четвертое и последнее из найденных нами положений раскрывает новую перспективу в истории культурного развития ненормального ребенка. Мы имеем в виду то, что мы назвали выше овладением собственным поведением. В применении к ненормальному ребенку мы можем сказать, что надо различать степени развития той или иной функции и степени развития овладения этой функцией. Всем известно, какую огромную диспропорцию образует развитие высших и низших функций у умственно отсталого ребенка. Для дебильности характерно не столько общее равномерное снижение всех функций, сколько недоразвитие именно высших функций при относительно благополучном развитии элементарных. Поэтому мы должны исследовать не только то, какой памятью обладает умственно отсталый ребенок, но и то, как и насколько он умеет использовать свою память. Недоразвитие умственно отсталого ребенка и заключается в первую очередь в недоразвитии высших форм поведения, в неумении овладеть собственными процессами поведения, в неумении их использовать.
Мы возвращаемся в известной степени с другого конца к той идее, которую выдвигал Э. Сеген, которому сущность идиотизма представлялась как недоразвитие воли. Если понимать волю в смысле овладения собой, мы были бы склонны присоединиться к его мнению и утверждать, что именно в дефекте овладения собственным поведением лежит главный источник всего недоразвития умственно отсталого ребенка. И. Линдворский выразил то же самое в несколько парадоксальной форме, когда пытался свести основу интеллектуальной деятельности к восприятию отношений и утверждал, что в этом смысле интеллект как функция восприятия отношений в не меньшей степени присущ идиоту, чем Гёте, и что огромное различие между одним и другим заключается не в указанном акте, а в других, более высоких, психических процессах.
Отсюда мы можем сделать основной вывод, которым и заключим наши замечания о своеобразии культурного развития ненормального ребенка. Мы можем сказать, что вторичным осложнением умственной отсталости всегда является, во-первых, примитивизм как общее культурное недоразвитие, возникающее на основе органической недоразвитости мозга, и, во-вторых, некоторое волевое недоразвитие, задержка на инфантильной стадии овладения собой и процессами собственного поведения. Наконец, лишь на третьем, и последнем, месте должно быть поставлено основное осложнение умственной отсталости, общее недоразвитие всей личности ребенка.
Остановимся теперь на некоторых конкретных вопросах развития высших психических функций, рассмотрение которых позволит нам ближе подойти к основным данным детской и педагогической психологии.
Приложимо ли вообще понятие развития к тем изменениям, о которых все время идет речь? Ведь под развитием мы имеем в виду очень сложный процесс, определяемый рядом признаков.
Перый признак заключается в том, что при всяком изменении субстрат, лежащий в основе развивающегося явления, остается тем же самым. Второй ближайший признак заключается в том, что всякое изменение здесь носит до известной степени внутренний характер; мы не называем развитием такое изменение, которое совершенно не связано ни с каким внутренним процессом, происходящим в том организме и в той форме активности, которые мы изучаем. Единство как постоянство всего процесса развития, внутренняя связь между прошедшей стадией развития и наступившим изменением — вот второй основной признак, который входит в понятие развития.
Надо сказать, что с этой точки зрения очень долго в детской психологии отказывались рассматривать культурный опыт ребенка как акт развития. Обычно говорили: развитием можно назвать то, что идет изнутри, а то, что идет извне, — это приучение, воспитание, потому что в природе не существует ребенка, который бы естественно вызревал в своих арифметических функциях, а как только ребенок достигает, скажем, школьного возраста или немного раньше, он воспринимает внешним образом от окружающих его людей целый ряд арифметических понятий и последовательных операций. Таким образом, мы будто бы вовсе не можем сказать, что усвоение в 8 лет сложения и вычитания, а в 9 лет — умножения и деления есть естественный результат развития ребенка; это лишь внешние изменения, проистекающие из среды, а отнюдь не процесс внутреннего развития. Однако более глубокое изучение того, как накапливается культурный опыт ребенка, показало: ряд важнейших признаков, необходимых для того, чтобы можно было к известным изменениям приложить понятие развития, имеется налицо в этом случае.
Первый признак заключается в том, что всякая новая форма культурного опыта является не просто извне, независимо от состояния организма в данный момент развития, а организм, усваивая внешние влияния, усваивая целый ряд форм поведения, ассимилирует их в зависимости от того, на какой ступени психического развития он стоит. Происходит нечто напоминающее то, что при росте тела называется питанием, т. е. усвоение известных внешних вещей, внешнего материала, который, однако, перерабатывается и ассимилируется в собственном организме.
Представим себе, что ребенок, не знавший культурных форм арифметики, попадает в школу и начинает там учить четыре действия. Спрашивается, можно ли доказать, что освоение четырех действий протекает как процесс развития, т.е. что оно определяется тем наличием знаний по арифметике, с которыми ребенок поступил в школу? Оказывается, дело обстоит именно так, и это дает основу для преподавания арифметики детям определенного возраста и на отдельных ступенях обучения. Этим объясняется то, что в 7-8 лет для ребенка становится впервые возможным усвоение такой операции, потому что у него произошло развитие знаний по арифметике. Рассматривая детей I-III классов, мы находим, что в течение 2-3 лет ребенок в основном обнаруживает еще следы дошкольной, натуральной арифметики, с которой пришел в школу.
Равным образом, когда ребенок усваивает, казалось бы чисто внешним путем, в школе различные операции, усвоение всякой новой операции является результатом процесса развития. Мы попытаемся показать это в конце главы, когда будем анализировать понятия усвоения, изобретения, подражания, т.е. все способы, при помощи которых усваиваются новые формы поведения. Мы постараемся показать: даже там, где будто бы форма поведения усваивается путем чистого подражания, не исключена возможность того, что она возникла в результате развития, а не только путем подражания.
Для того чтобы убедиться в этом, достаточно в эксперименте показать, что всякая новая форма поведения, даже усваиваемая извне, обладает различными особенностями. Естественно, она надстраивается над предыдущей, что становится возможным не иначе, как на основе предыдущей. Если бы кому-нибудь удалось экспериментально показать возможность овладения какой-нибудь культурной операцией сразу в ее наиболее развитой стадии, то тогда было бы доказано, что здесь речь идет не о развитии, а о внешнем усвоении, т.е. о каком-то изменении в силу чисто внешних влияний. Однако эксперимент учит нас, наоборот, тому, что каждое внешнее действие есть результат внутренней генетической закономерности. На основании экспериментов мы можем сказать, что никогда культурный ребенок — даже вундеркинд — не может овладеть сразу последней стадией в развитии операции раньше, чем пройдет первую и вторую. Иначе говоря, само внедрение новой культурной операции распадается на ряд звеньев, на ряд стадий, внутренне связанных друг с другом и переходящих одна в другую.
Раз эксперимент это нам показывает, то мы имеем все основания приложить к процессу накопления внутреннего опыта понятие развития, и в этом заключается второй признак, о котором мы вначале говорили.
Но само собой понятно, что рассматриваемое развитие будет совершенно другого типа, чем развитие, которое изучается при возникновении элементарных функций ребенка. Это — существеннейшее отличие, которое нам очень важно отметить, потому что в данном случае оно является также одним из основных признаков.
Мы знаем, что в основных формах приспособления человека, борьбы человека с природой зоологический тип развития существенно отличается от исторического. В первом происходят анатомические изменения организма и биологическое развитие протекает на основе органических изменений структуры, в то время как в человеческой истории интенсивное развитие форм приспособления человека к природе происходит без таких существенных органических изменений.
Наконец, нельзя не указать на то, что связь между естественным развитием, поведением ребенка, основанным на вызревании его органического аппарата, и теми типами развития, о которых мы говорим, есть связь не эволюционного, а революционного характера: развитие происходит не путем постепенного, медленного изменения и накопления мелких особенностей, которые в сумме дают, наконец, какое-то существенное изменение. Здесь в самом начале мы наблюдаем развитие революционного типа, иначе говоря, резкие и принципиальные изменения самого типа развития, самих движущих сил процесса, а хорошо известно, что наличие революционных изменений наряду с эволюционными не является таким признаком, который исключал бы возможность приложить понятие развития к этому процессу. Теперь перейдем непосредственно к рассмотрению таких моментов изменения типа развития.
Нам хорошо известно, что в современной детской психологии более или менее общеприняты две теории генезиса: одна различает в развитии поведения два основных этажа, другая — три. Первая склонна указывать, что все поведение в развитии проходит через две основные стадии: стадию инстинкта, или стадию, которую принято называть безусловным рефлексом — наследственной или врожденной функцией поведения, и стадию приобретенных на личном опыте реакций, или условных рефлексов, — стадию дрессировки в применении к животным.
Другая теория склонна стадию приобретенных в личном опыте реакций разделять еще дальше и различать стадию условных рефлексов, или навыков, и стадию интеллектуальных реакций.
Чем третья стадия отличается от второй? Очень кратко можно сказать, что существенным отличием является, с одной стороны, способ возникновения реакции, и с другой — характер функции, т.е. биологического назначения реакции в отличие от навыка, возникающего в результате проб и ошибок или в результате стимулов, действующих в одном направлении. При интеллектуальных реакциях ответ возникает как выражение известного образа, получаемого, очевидно, в результате какого-то короткого замыкания, т.е. сложного внутреннего процесса, образующегося на основе возбуждения ряда сотрудничающих центров и прокладывающего новый путь. Следовательно, речь идет о какой-то реакции взрывного типа, чрезвычайно сложной по характеру возникновения, механизмы которой пока неизвестны, поскольку наше знание мозговых процессов находится еще на начальной ступени развития.
Если функция инстинктивной реакции отличается от функции навыков, то и последняя отличается от интеллектуальной функции. Ведь если биологическая функция навыка есть приспособление к индивидуальным условиям существования, которые более или менее ясные и простые, то функция интеллектуального поведения является приспособлением к изменяющимся условиям среды и к изменяющейся обстановке при новых условиях. Именно на этой почве у психологов и происходит спор. Авторы, которые отказываются рассматривать интеллект как особый этаж в природе, говорят, что это только особый подкласс внутри того же самого класса приобретения навыка. Мне кажется, что дело научной осторожности говорить здесь действительно только о двух классах развития поведения ребенка — о наследственном и о приобретенном опыте, а внутри второго — приобретенного опыта — придется по мере усложнения наших знаний устанавливать не только две стадии, но, может быть, и больше.
Следовательно, правильно было бы, нам кажется, при современном состоянии знаний принять точку зрения американского психолога Торндайка, который различает два этажа — наследственный и индивидуальный, или внутренний и приобретенный, и в поведении различает две стадии, или две группы, реакций — с одной стороны, навыки, наследуемые для приспособления к более или менее длительным условиям индивидуального существования, а с другой — целую иерархию навыков, направленных на решение новых задач, возникающих перед организмом, иначе говоря, того ряда реакций, о которых мы говорили.
Для того чтобы понять связь между этапами развития, которые интересуют нас в детской психологии, нужно в двух словах отдать себе отчет в том, какие отношения существует между ними. Отношения носят диалектический характер.
Каждая следующая стадия в развитии поведения, с одной стороны, отрицает предыдущую стадию, отрицает в том смысле, что свойства, присущие первой стадии поведения, снимаются, уничтожаются, а иногда превращаются в противоположную — высшую — стадию. Например, проследим, что происходит с безусловным рефлексом, когда он превращается в условный. Мы видим, что ряд свойств, связанных с его наследственным характером (стереотипность и т.п.), отрицается в условном рефлексе, потому что условный рефлекс есть образование временное, гибкое, чрезвычайно поддающееся влиянию посторонних стимулов и, кроме того, присущее только данному индивиду не по природе и не по наследству, а приобретаемое благодаря условиям опыта. Таким образом, всякая следующая стадия указывает на изменение или отрицание свойств предыдущей стадии. С другой стороны, предыдущая стадия существует внутри следующей, что показывает, скажем, стадия условно рефлекса.
Его свойства те же, что и в безусловном рефлексе; это тот же инстинкт, но только проявляющийся и существующий в другой форме и другом выражении.
Современная динамическая психология стремится изучить энергетическую основу различных форм поведения. Например, в ряде изменений форм инстинкта психологи видят действие развивающейся детской речи и ее влияние на поведение, что, конечно, для нас представляет огромный интерес в отношении проблемы воли. К нему мы еще вернемся. Основной же вопрос, который ставится психологами, для нас ясен и понятен. Например, современный человек идет обедать в ресторан, тогда как при том же природном инстинкте животное отправляется добывать пищу, необходимую для существования. Поведение животного основано всецело на инстинктивной реакции, в то время как у человека, испытывающего тот же голод, способ поведения основан на совершенно других, условных, реакциях. В первом случае мы имеем природный рефлекс, где одна реакция следует за другой, в другом случае — ряд условных изменений. Однако если мы вглядимся в культурное поведение человека, то увидим, что конечным двигателем этого поведения, энергетической основой, стимулом является тот же инстинкт или та же материальная потребность организма, которая двигает и животным, где инстинкт не всегда нуждается в условных рефлексах. У человека инстинкт существует в скрытом виде, и его поведение обязательно связано с измененным рядом свойств этого инстинкта.
Такое же точно диалектическое отношение с отрицанием предыдущей стадии при сохранении ее в скрытом виде мы имеем в отношении условного рефлекса и интеллектуальной реакции. В известном примере Торндайка с арифметическими задачами существенно то, что ребенок, решающий задачу, не применяет никаких других реакций, кроме тех, которые он усвоил в навыке или в комбинации навыков, направленных на решение новой для него задачи. Таким образом, и здесь интеллектуальная реакция отрицает навыки, которые являются как бы скрытой реакцией, направленной на решение задач, стоящих перед организмом, и ряд свойств навыков уничтожается. Однако вместе с тем интеллектуальная реакция, как оказывается, в существенном сводится не к чему другому, как к системе навыков, а эта самая система, или организация, навыков является собственным делом интеллекта.
Если мы примем во внимание такую последовательность стадий в естественном развитии поведения, то мы должны будем сказать нечто подобное и в отношении четвертой стадии в развитии поведения, которая нас здесь занимает. Мы, может быть, должны будем признать, что те высшие процессы поведения, о которых мы собираемся говорить, также относятся к естественному поведению, при котором каждая стадия внутритого естественного поведения имеет известные отношения к предыдущей стадии: она до известной степени отрицает стадию примитивного поведения и вместе с тем содержит натуральное поведение в скрытом виде.
Возьмем в качестве примера такую операцию, как запоминание при помощи знаков. Мы увидим, что, с одной стороны, здесь запоминание протекает так, как не протекает обычное запоминание при установлении навыков; запоминание при интеллектуальной реакции обладает некоторыми свойствами, которых в первом случае нет. Но если мы разложим на составные части процесс запоминания, опирающегося на знаки, то легко сумеем открыть, что в конечном счете этот процесс содержит в себе те же самые реакции, которые характерны и для естественного запоминания, но только в новом сочетании. Новое сочетание и составляет основной предмет наших исследований детской психологии.
В чем же заключаются основные изменения? В том, что на высшей стадии развития человек приходит к овладению собственным поведением, подчиняет своей власти собственные реакции. Подобно тому как он подчиняет себе действия внешних сил природы, он подчиняет себе и собственные процессы поведения на основе естественных законов этого поведения. Так как основой естественных законов поведения являются законы стимулов — реакций, то поэтому реакцией невозможно овладеть, пока не овладеешь стимулом. Следовательно, ребенок овладевает своим поведением, но ключ к этому лежит в овладении системой стимулов. Ребенок овладевает арифметической операцией, овладев системой арифметических стимулов.
Точно так же ребенок овладевает всеми другими формами поведения, овладев стимулами, а система стимулов является социальной силой, даваемой ребенку извне.
Для того чтобы сказанное стало вполне ясным, проследим те стадии, которые проходит развитие операции по овладению своим поведением у ребенка. Приведем экспериментальный пример, которым мы уже пользовались, говоря о реакции выбора. Здесь уместно рассказать в нескольких словах, как изменяется эта реакция в процессе запоминания и почему этими изменениями мы определяем свойства развития.
В чем заключается развитие реакции выбора у ребенка? Для исследования берут, скажем, пять-восемь раздражителей, и ребенку предлагают на каждый из раздражителей отвечать отдельной реакцией, например, на синий цвет реагировать одним пальнем, на красный — другим, на желтый — третьим. Мы знаем, что реакция выбора устанавливается у ребенка, согласно данным старой экспериментальной психологии, на шестом году жизни. Установлено также, что у взрослого человека сложная реакция выбора образуется значительно труднее, и, для того чтобы при большом числе стимулов выбрать реакции, соответствующие каждому стимулу, нужны специальные усилия.
Например, если мы просим испытуемого реагировать на красный цвет левой рукой и на синий — правой, то выбор устанавливается скоро и реакция будет протекать легче, чем если мы дадим выбор из трех-четырех или пяти-шести цветов. Анализ старых экспериментов, как мы уже указывали, привел психологов к заключению, что при реакции выбора мы, собственно, не выбираем — здесь происходит процесс другого характера, который только по внешнему типу можно принять за выбор. На самом деле происходит другое. Ряд исследований дает основание предположить, что в основе реакции выбора лежит очень сложная форма поведения, что мы должны различать стимулы, появляющиеся в беспорядке, от стимулов организованных, что в этих реакциях происходит замыкание условных связей, или, говоря языком старой психологии, происходит закрепление инструкции. Однако если для запоминания инструкции мы применим мнемотехнический способ, который вообще характерен для памяти, то мы можем облегчить установление правильной реакции выбора.
Мы поступаем следующим образом: мы даем ребенку 6, а затем и 7-8 лет ряд стимулов, скажем ряд картинок, и просим на каждую картинку реагировать отдельными движениями — либо нажимать на соответствующий ключ, либо делать движение пальцем. Мы даем испытуемому возможность воспользоваться внешними средствами для решения этой внутренней операции и стараемся проследить, как ведет себя ребенок в таких случаях.
Интересно, что ребенок всегда берется за предлагаемую задачу, не отказывается от нее. Он настолько мало знает свои психические силы, что задача не кажется ему невозможной в отличие от взрослого, который, как показал опыт, всегда отказывается и говорит: «Нет, я не запомню и не смогу сделать». И действительно, если взрослому дают такую инструкцию, он несколько раз переспрашивает, возвращается к прежнему цвету, уточняет, на какой цвет каким пальцем нужно реагировать. Ребенок же берется за задачу, выслушает инструкцию и сразу пытается исполнять ее.
Начинается опыт. Чаще всего дети сразу попадают в затруднение, на 90% ошибаются. Но и дети более старшего возраста, усвоив одну или две реакции, в отношении остальных стимулов наивно спрашивают, на какой цвет каким пальцем нужно нажать. Эту раннюю стадию у ребенка мы принимаем за исходную стадию, она изучена и описана, и мы вправе назвать ее натуральной, или примитивной, стадией развития реакций.
Почему она примитивная, натуральная, для нас ясно. Она общая для всех детей, в громадном большинстве дети ведут себя при несложных реакциях именно так; она примитивна, потому что поведение ребенка в данном случае определяется его возможностями непосредственного запечатления, естественным состоянием его мозгового аппарата. И действительно, если ребенок берется при десяти раздражителях усвоить сложную реакцию выбора, это объясняется тем, что он еще не знает своих возможностей и оперирует со сложным, как с простым. Иначе говоря, он пытается реагировать на сложную структуру примитивными средствами.
Дальше опыт ставится следующим образом. Видя, что ребенок не справляется с задачей примитивными средствами, мы пробуем ввести в опыт определенную модификацию, вводим второй ряд стимулов. Это основной метод, которым обычно пользуются при исследовании культурного поведения ребенка.
Кроме стимулов, которые должны вызывать ту или иную реакцию выбора, мы даем ребенку ряд дополнительных стимулов, например картинки, наклеенные на отдельные клавиши, и предлагаем испытуемому связать данную картинку с данным ключом. Например, при предъявлении картинки, на которой нарисована лошадь, необходимо нажать ключ, на котором нарисованы сани. Ребенок, получая инструкцию, уже видит, что на картинку «лошадь» нужно нажать ключ с «санями», на «хлеб» нужно нажать ключ с нарисованным ножом. Тут реакция протекает хорошо, она вышла уже из примитивной стадии, потому что ребенок реагирует не только в зависимости от примитивных условий; у него сразу возникает правило для решения задачи, он производит выбор с помощью обобщенной реакции. При выборе из десяти раздражителей соответственно изменяются и свойства реакции. При этом закон возрастания длительности заучивания в зависимости от числа стимулов здесь уже не имеет силы; все равно, дадите ли вы четыре или восемь, пять или десять стимулов, — качество реагирования на стимулы не изменяется.
Но было бы ошибкой думать, будто ребенок сразу же полностью овладел данной формой поведения. Стоит только взять те же картинки и переставить их, как окажется, что такой связи не было. Если вместо ключа с «санями» над картинкой «лошадь» поставить ключ с «ножом» и если велеть на картинку «лошадь» нажать ключ с «ножом», то ребенок сначала не заметит, что вспомогательные картинки переставлены. Если мы спросим, сумеет ли он запомнить, ребенок, не сомневаясь, ответит утвердительно.
Он выслушает инструкцию, но, когда мы действительно изменим положение картинок, ребенок правильной реакции выбора не даст. Описанная стадия протекает у детей по-разному, но основное в поведении всех детей заключается в том, что они будут обращаться к картинкам, еще не понимая, каким способ действует картинка, хотя и запоминают, что каким-то образом «лошадь» помогла найти «сани». Ребенок рассматривает внутреннюю сложную связь чисто внешне, ассоциативно, он чувствует, что факт налицо, что картинка должна помочь ему сделать выбор, хотя и не может объяснить внутреннюю связь, лежащую в основе этого.
Простым примером такой стадии в развитии операций ребенка является опыт, проведенный с одной маленькой девочкой. Мать дает ребенку поручение, аналогичное поручению по тесту Бине, — пойти в соседнюю комнату и выполнить три маленькие операции. Давая поручение, мать то повторяет его несколько раз, то говорит один раз. Девочка замечает, что в тех случаях, когда мать повторяет несколько раз, поручение удается, ребенок это запоминает и, наконец, начинает понимать, что матери нужно несколько раз повторить приказ. Когда мать дает новое поручение, девочка говорит: «Повтори еще раз», — а сама, не слушая, убегает. Девочка заметила связь между повторением и успехом в выполнении задачи, но не понимает, что не само по себе повторение помогает ей, что повторение нужно выслушать, ясно усвоить и только тогда легче будет выполнить поручение.
Следовательно, для такого рода операций характерна внешняя связь между стимулом и средством, но не психологическая внутренняя связь между ними. Интересно, что близкие явления, наблюдаемые у примитивного человека, часто называются магическим мышлением. Оно возникает на основе недостаточных знаний собственных законов природы и на основе того, что примитивный человек связь между мыслями принимает за связь между вещами.
Один из типичных образцов магии следующий. Для того чтобы навредить человеку, примитивные люди колдуют, стараются достать его волосы или портрет и сжигают, предполагая, что тем самым будет наказан и человек. Тут механическая связь мыслей замещает связь предметов. Как примитивные люди вызывают дождь? Они пытаются сделать это путем магической церемонии. Сначала начинают дуть через пальцы, изображая ветер, а затем устраивают так, чтобы на песок попала вода, и если песок намок, значит, такой церемонией можно вызвать дождь. Связь мысленная превращается в связь вещественную.
У ребенка в той стадии, о которой мы говорим, происходит противоположное явление — связь между вещами принимается за связь между мыслями, связь между двумя картинками принимается за связь психологическую. Иначе говоря, происходит не подлинное пользование данным законом, а его внешнее, ассоциативное использование. Эту стадию можно назвать стадией наивной психологии. Название «наивная психология» дано по аналогии с введенным О. Липманном и X. Богеном, а с ними и Келером названием «наивная физика». Оно означает, что если у некоторых животных есть наивный опыт практического употребления орудий, то у человека есть аналогичный наивный опыт относительно своих психических операций. В обоих случаях опыт наивный, потому что он приобретен непосредственным, наивным путем. Но так как наивный опыт имеет границы, то наивная физика обезьяны приводит к ряду интересных явлений. Обезьяна имеет слишком мало сведений о физических свойствах своего тела. Эту наивную физику она строит на своем оптическом опыте, и получается нечто вроде известного факта, описанного Келером: если обезьяна научилась доставать плод при помощи палки и если у нее под рукой нет палки, обезьяна прибегает к соломинке и пытается подкатить плод соломинкой. Почему возможна такая ошибка? Потому, что оптически соломинка имеет сходство с палкой, а физических свойств палки обезьяна не знает. Точно так же она оперирует с башмаком, с полями соломенной шляпы, с полотенцем и с любым предметом.
Еще интереснее недостатки наивной физики проявляются у обезьяны, когда она хочет достать высоко положенный плод: она стремится поставить ящик под углом или ребром к стене и приходит в ярость, когда ящик падает. Другая обезьяна приставляет ящик к стене на высоте своего роста и прижимает его в надежде, что в таком положении ящик будет держаться. Операции обезьян объясняются очень просто из естественной жизни в лесу, где животные приобретают наивный физический опыт. Обезьяна имеет возможность держаться на сучьях, которые идут от ствола дерева именно в таком же направлении, в каком она хочет прилепить ящик к стене. Ошибочные операции вызываются у обезьян недостаточным знанием физических свойств собственного тела и других тел.
Данный эксперимент, перенесенный на детей, показывает: употребление орудий у ребенка раннего возраста также объясняется его наивной физикой, т.е. тем, насколько ребенок, приобретший кое-какой опыт, способен использовать некоторые свойства вещей, с которыми ему приходится иметь дело, выработать к ним известное отношение. Аналогично этому в результате практического употребления знаков появляется опыт их использования, который остается еще наивным психологическим опытом.
Для того чтобы понять, что лучше запомнить можно после повторения, нужно уже иметь известный опыт в запоминании. В опытах наблюдается, как это запоминание протекает, понятно, что детское запоминание при повторении крепнет. Ребенок, который не понимает связи между повторением и запоминанием, не имеет достаточного психологического опыта в отношении реальных условий протекания собственной реакции и использует этот опыт наивно.
Приобретается ли наивный психологический опыт? Несомненно, приобретается, как приобретается и наивный физический опыт благодаря тому, что ребенок оперирует с предметами, производит движения, овладевает теми или иными свойствами предметов, научается подходить к ним. Точно так же ребенок в процессе приспособления запоминает и исполняет различные поручения, т.е. производит ряд психических операций. Производя их, ребенок накапливает, приобретает известный наивный психологический опыт, он начинает понимать, как надо запоминать, в чем заключается запоминание, и когда он это поймет, то начинает правильно употреблять тот или иной знак.
Таким образом, ребенок в стадии магического употребления знаков использует их по чисто внешнему сходству. Однако эта стадия длится у ребенка недолго. Ребенок убеждается, что при помощи известного расположения картинок он запоминает реакцию выбора, а при помощи другого расположения не запоминает. Так ребенок приходит к открытию своеобразного характера своего запоминания и скоро начинает говорить: «Нет, ты поставь эту картинку здесь». Когда говорят, что на картинку «лошадь» нужно нажать ключ «хлеб», он говорит: «Нет, я возьму тот ключ, где нарисованы сани». Так смутно, но постепенно ребенок все же начинает накапливать опыт в отношении собственного запоминания.
Наивно усвоив, в чем заключается операция запоминания, ребенок переходит к следующей стадии. Если мы дадим ему картинки в беспорядке, он уже сам расставляет их в нужном порядке и сам устанавливает известную связь, он уже не внешне оперирует знаками, а знает, что наличие таких-то знаков поможет ему произвести определенную операцию, т.е. запомнить, пользуясь данными знаками.
Очень скоро ребенок, пользуясь уже готовой связью, установив на прошлом опыте такую связь (лошадь — сани или хлеб — нож), сам переходит к созданию связи. Теперь ребенок уже не затрудняется создать и запомнить подобную связь. Иначе говоря, следующая стадия характеризуется тем, что ребенок, пользуясь связью, которую мы ему даем, переходит к созданию новой связи. Эту стадию можно назвать стадией употребления внешних знаков. Она характеризуется тем, что при пользовании знаками во внутренней операции у ребенка начинают самостоятельно формироваться новые связи. И это самое важное, что мы хотели изложить. Ребенок организует стимулы для того, чтобы выполнить свою реакцию.
В этой стадии мы ясно видим проявление основных генетических законов, по которым организуется поведение ребенка. Оно составляется из реакции, которую ребенок хочет направить по известному пути. При этом он организует те стимулы, которые находятся вовне, и использует их для осуществления предложенной ему задачи. Указанная стадия длится недолго, ребенок переходит к следующей форме организации своей деятельности.
После того как испытуемый несколько раз произведет один и тот же опыт, исследователь начинает наблюдать сокращение времени реакции: если раньше реакция выполнялась за 0,5сек. и больше, то сейчас она отнимает уже только 0,2сек.; значит, реакция ускоряется в 2,5 раза. Самое важное изменение заключается здесь в том, что ребенок при внутренней операции запоминания использует внешние средства: желая овладеть своей реакцией, он овладевает стимулами; однако затем ребенок постепенно отбрасывает внешние стимулы, которые находятся перед ним, он уже на них не обращает внимания. Выполняя реакцию выбора, ребенок оперирует, как он оперировал раньше, но уже отбрасывая ряд стимулов. Разница заключается в том, что внешняя реакция переходит во внутреннюю; та реакция, которая раньше была невозможна при наличии большого числа раздражителей, теперь становится возможной.
Представим себе, что произошло: всякая внешняя операция имеет, как говорят, свое внутреннее представительство. Что это значит? Мы делаем известное движение, переставляем известные стимулы, здесь один стимул, здесь — другой. Этому соответствует какой-то внутренний мозговой процесс. В результате ряда таких опытов при переходе от внешней операции к внутренней все средние стимулы оказываются более ненужными и операция начинает осуществляться в отсутствие опосредующих стимулов. Иначе говоря, происходит то, что мы условно называем процессом вращивания. Если внешняя операция стала внутренней, то произошло ее врастание внутрь, или переход внешней операции во внутреннюю. На основании поставленных опытов мы можем наметить три основных типа такого вращивания, т.е. перехода операции извне вовнутрь. Приведем эти типы и постараемся показать, в какой мере наши результаты типичны для культурного ребенка вообще и в частности для арифметического развития ребенка, для его речевого развития и для развития его памяти.
Первым типом вращивания, или ухода внешней операции вовнутрь, является то, что мы условно называем вращиванием по типу шва. Мы знаем, как происходит вращивание живой ткани. Мы берем два конца разорванной ткани и первоначально сшиваем ниткой. Благодаря тому что два конца ткани соединяются, происходит их сращивание. Затем введенную предварительно нитку можно выдернуть, и вместо искусственной связи получается сращивание без шва.
Когда ребенок соединяет свои стимулы с реакцией, он соединяет данный стимул с реакцией сначала через шов. Чтобы запомнить, что картинка «лошадь» соответствует ключу «сани», ребенок вдвигает между данным ключом и данной картинкой промежуточный член, именно рисунок «сани»; это и есть шов, который сращивает данный стимул с данной реакцией. Постепенно шов отмирает и образуется непосредственная связь между стимулом и реакцией. Если шов отбрасывается, то, конечно, реакция ускоряется во времени, и та операция, которая требовала 0,5сек., теперь требует только 0,15сек., потому что путь от стимула к реакции стал короче. Операция из опосредованной переходит в прямую.
Второй тип вращивания — вращивание целиком. Представим себе, что ребенок много раз реагирует на одну и ту же картинку при помощи рисунков, на которых нарисованы одни и те же понятные для него вещи. Если ребенок 30 раз реагировал таким образом, то, конечно, можно утверждать, что ребенок уже будет помнить, что на данную картинку («лошадь») надо нажать на ключ «сани», иначе говоря, весь ряд внешних стимулов он целиком переносит внутрь. Это будет переход внутрь всего ряда, здесь переход операции внутрь заключается в том, что разница между внешними и внутренними стимулами сглаживается.
Наконец, третий и самый важный тип перехода внешней операции вовнутрь заключается в том, что ребенок усваивает саму структуру процесса, усваивает правила пользования внешними знаками, а так как у него внутренних раздражителей больше и он ими оперирует легче, чем внешними, то в результате усвоения самой структуры ребенок скоро переходит к использованию структуры по типу внутренней операции. Ребенок говорит: «Мне больше картинок не нужно, я сам сделаю», — и, таким образом, начинает пользоваться словесными раздражителями.
Проследим эту стадию на примере развития таких важных знаний ребенка, как знания по арифметике.
В натуральной, или примитивной, стадии ребенок решает задачу непосредственным путем. После решения самых простых задач ребенок переходит к стадии употребления знаков без осознания способа их действия. Затем идет стадия использования внешних знаков и, наконец, стадия внутренних знаков.
Всякое арифметическое развитие ребенка должно раньше всего иметь как отправную точку натуральную, или примитивную, стадию. Может ли ребенок 3 лет сказать на глаз, какая кучка предметов больше — из 3 яблок или из 7? Может. А сможет ли ребенок, если вы попросите, при более сложной дифференциации дать верный ответ, в какой кучке будет 16, а в какой — 19 яблок? Нет, не сможет. Иначе говоря, вначале мы будем иметь натуральную стадию, определяющуюся чисто естественными законами, когда ребенок просто на глаз сравнивает нужные количества. Однако мы знаем, что ребенок очень скоро совершенно незаметно переходит из этой стадии в другую, и когда нужно узнать, где больше предметов, то основная масса детей в культурной обстановке начинает считать. Иногда они делают это даже раньше, чем понимают, что такое счет. Они считают: один, два, три и так целый ряд, хотя подлинного счета еще не знают.
Проверяя, многие ли дети начинают считать прежде, чем они понимают, что такое счет, исследователи (например Штерн) наблюдали детей, умеющих считать, но не понимающих, что такое счет. Если спросить такого ребенка:
«Сколько у тебя пальцев на руке?» — он перечисляет порядковый ряд и говорит: «Пять». А если ему сказать: «Сколько у меня? Пересчитай!» — ребенок отвечает: «Нет, я не умею». Значит, ребенок умеет числовой ряд применять только к своим пальцам, а на чужой руке сосчитать не может.
Другой пример Штерна. Ребенок считает пальцы:
«Один, два, три, четыре, пять». Когда спрашивают: «Сколько у тебя всего?» — он отвечает: «Шесть». — «Почему шесть?» — «Потому, что это пятый, а всего шесть». Ясного представления о сумме у ребенка нет. Иначе говоря, ребенок чисто внешне, «магически» усваивает известную операцию, еще не зная ее внутренних отношений.
Наконец, ребенок переходит к действительному счету; он начинает понимать, что значит считать свои пальцы, но все же ребенок еще считает с помощью внешних знаков. На этой стадии ребенок считает главным образом по пальцам, и, если ему предлагают задачу: «Вот семь яблок. Отними два. Сколько останется?» — ребенок, чтобы решить задачу, от яблок переходит к пальцам. В данном случае пальцы играют роль знаков. Он выставляет семь пальцев, затем отделяет два, остается пять. Иначе говоря, ребенок решает задачу при помощи внешних знаков. Стоит запретить ребенку двигать руками, как он оказывается не в состоянии произвести соответствующую операцию.
Но мы знаем прекрасно, что ребенок от счета на пальцах очень скоро переходит к счету в уме; ребенок старшего возраста, если ему нужно из семи вычесть два, уже не считает на пальцах, а считает в уме. При этом у ребенка обнаруживаются два основных типа вращивания, о которых мы говорили. В одном случае счет в уме является вращиванием целого и ребенок целиком вращивает внутрь весь внешний ряд (например, считая про себя: «Один, два, три» и т.д.). В другом случае он обнаруживает вращивание по типу шва. Это имеет место, если ребенок поупражняется, потом скажет. В конце концов он не будет нуждаться в промежуточной операции, а прямо скажет результат. Так происходит при любом счете, когда все опосредующие операции пропадают и стимул непосредственно вызывает нужный результат.
Другой пример относится к развитию речи ребенка. Ребенок сначала стоит на стадии натуральной, примитивной, или собственно доречевой: он кричит, издает одинаковые звуки в разных положениях — это чисто внешнее действие. На этом этапе, когда ему нужно потребовать что-либо, он прибегает к натуральным средствам, опираясь на непосредственные, или условные, рефлексы. Затем наступает стадия, когда ребенок открывает основные внешние правила или внешнюю структуру речи; он замечает, что всякой вещи принадлежит свое Слово, что данное Слово является условным обозначением этой вещи. Ребенок долгое время рассматривает Слово как одно из свойств вещи. Исследования, произведенные над детьми более старшего возраста, показали, что отношение к словам как к естественным особенностям вещей остается очень долго.
Существует интересный филологический анекдот, который показывает отношение к языку у малокультурных народов. Есть рассказ в книге Федорченко о том, как солдат разговаривает с немцем и рассуждает о том, какой язык самый лучший и самый правильный. Русский доказывает, что русский язык самый лучший: «Возьмем, например, нож, по-немецки будет Messer, по-французски — couteau и по-английски — knife, но ведь это же есть на самом деле нож, значит, наше Слово самое правильное». Иначе говоря, предполагается, что имя вещи является выражением ее истинной сущности.
Второй пример у Штерна с ребенком, который говорит на двух языках, отражает то же положение: когда у ребенка спрашивают, какой язык правильный, он говорит, что по-немецки будет правильно, потому что Wasser — это именно то, что можно пить, а не то, что по-французски называется l’eau. Таким образом, мы видим, что у ребенка создается связь между названием вещи и самой вещью. Дети считают название одним из свойств вещи наряду с другими ее свойствами. Иначе говоря, внешняя связь стимулов или связь вещей принимается за связь психологическую.
Известно, что у примитивных людей существует магическое отношение к словам. Так, у народов, выросших под влиянием религиозных предрассудков, например у евреев, существуют такие слова, которые нельзя называть, и если приходится говорить о чем-нибудь, скажем о покойнике, то обязательно прибавляют слова: «Да не распространится это на ваш дом». Чёрта нельзя называть, потому что, если его помянуть, он и сам появится. То же относится и к словам, определяющим «стыдные» предметы: слова приобретают оттенок этих стыдных вещей, и их стыдно произносить. Иначе говоря, это остаток перенесения на условные знаки свойств того предмета, который этими знаками обозначается.
Ребенок очень скоро от стадии рассмотрения слова как качественного свойства предмета переходит к условному обозначению слов, т.е. употребляет слова в качестве знаков, особенно в стадии эгоцентрической речи, о которой мы уже говорили. Здесь ребенок, рассуждая сам с собой, намечает важнейшие операции, которые ему предстоит сделать. Наконец, от стадии эгоцентрической речи ребенок переходит к последующей стадии — к стадии внутренней речи в собственном смысле слова.
Таким образом, в развитии речи ребенка мы наблюдаем те же стадии: натуральную, магическую стадию, при которой он относится к слову как к свойству вещи, затем внешнюю стадию и, наконец, внутреннюю речь. Последняя стадия и есть собственно мышление.
Обо всех примерах можно говорить отдельно. Однако после всего сказанного мы можем принять, что основными стадиями формирования памяти, воли, арифметических знаний, речи являются те же стадии, о которых мы говорили и которые проходят все высшие психические функции ребенка в их развитии.
Психология и Бытие — creation.com
Примечание редактора: Поскольку журнал Creation непрерывно издается с 1978 года, мы публикуют некоторые статьи из архивов, представляющие исторический интерес, например эту. Для обучения и В целях обмена информацией читателям рекомендуется дополнять эти исторические статьи более свежими, предлагаемыми в связанных статьях и для дополнительной литературы ниже.Кристель Уизерс-Мейн
iStockphotoПсихология, как и естественные науки, обращалась к любому источнику, кроме Библии, для объяснения своих выводов.Но, не признавая Бога Создателем и Спасителем, психология в значительной степени лишена способности вносить значимые изменения в жизни людей. В Библии много говорится о человеке, его проблемах и решении его проблем.
Чтобы понять эти вопросы и иметь возможность применять Божью истину изменяющими нашу жизнь способами, нам нужно начать с книги «начал» — Бытие. Книга Бытия объясняет, что существует абсолютный Бог, что реальность состоит из духовных и физических сущностей, что человек был создан с определенными богоподобными характеристиками и что человеческие проблемы являются прямым результатом греха, то есть его восстания против Бога.Книга Бытия также дает основу для нашей веры в решение человеческих проблем через смерть, воскресение и вознесение Иисуса Христа.
Только подчиняясь Создателю, мы можем контролировать свои эмоции и жить в мире со своими личностями.Природа человека
Бытие 1:26 говорит нам, что человек был создан «по образу Божьему». В нем не уточняется, что это означает, но, познав Бога, мы можем начать понимать, что должно быть сделано по Его образу.Наши богоподобные качества были испорчены влиянием греха в этом мире. Непослушание Богу привело к тому, что человек унизился настолько, что больше не отражает истинный образ Бога.
Однако этот образ не был уничтожен, и человек по-прежнему разделяет с Богом характеристики, с которыми он был создан, независимо от того, насколько искаженно они выражены. Основное качество нашего богоподобия — это бессмертный дух. 1 Бог есть дух, и мы тоже, хотя наши духи обитают в физических телах, и мы не всемогущи, всеведущи или вездесущи, как Бог.То, что мы духовные создания, отличает нас от животных и дает нам способность и желание общаться с Богом.
Бог также дал нам личность, 2 творчество и способность общаться. 3 Наша личность, как и наш дух, связана с физическим телом, через которое она выражается, а наши творческие способности и коммуникативные навыки ограничены подвижностью нашего тела и ума.
Бог есть любовь 4 и совершенный в святости 5 и нравственности. 2 Человеку была дана способность любить и он научился отличать добро от зла, хотя до грехопадения у него не было опыта зла или каких-либо представлений о его последствиях. Мы были созданы, чтобы прославлять Бога и быть отделенными для Него полностью. Грех изменил это, пока через Христа мы не обновимся в праведности и святости (Ефесянам 4:24).
Человеку также была предоставлена свобода в том смысле, что наши действия и решения являются продуктом нашей воли или внутренних процессов, а не только продуктом внешнего контроля или инстинкта. 6 В некотором смысле животные также обладают способностью общаться, творить, проявлять привязанность, выражать личность и действовать свободно, но только человек может рассуждать, выражать оригинальные мысли и любить безусловным и безусловным образом.
Однако в Ное мы видим, как правильное отношение способствует хорошему эмоциональному здоровью.Еще один аспект человеческого образа Бога описан в Бытие 1: 28-29. Человеку была дана власть над всеми живыми существами, и он должен был заполнить и покорить землю.Бог имеет абсолютный контроль, а человек по Его образу должен осуществлять делегированный контроль над своим окружением.
Однако после грехопадения человек утратил свою власть и стал подчиняться сатане, так что теперь мы видим людей, которые кажутся во власти своего окружения. 7 Они заядлые едоки, пьющие, рабочие, беспокойные и так далее. Их поведение определяется страхом перед такими вещами, как неизвестность, ползучие насекомые, микробы, смерть и другие люди. Их отношения остаются поверхностными и неудовлетворительными из-за их неспособности выражать свои мысли и чувства, дарить и получать любовь и справляться со своей виной.
После грехопадения человека невозможно полностью избавиться от проблем, даже если наша вина была устранена на Кресте. У Павла, одного из самых благочестивых людей, была болезнь, которую Бог не исцелил (2 Коринфянам 12: 9). Другой библейский герой, Моисей, боролся с чувством своей неполноценности (Исход, главы 3 и 4). Илия страдал от депрессии (3 Царств 19: 3-4), а импульсивная личность Петра несколько раз доставляла ему неприятности (Матфея 14: 28-31; 26: 33-35; Марка 8: 27-33).
Пока мы живем в греховном мире, все мы подвержены вырождению. Однако Библия дает принципы, которые позволяют нам избежать многих болезней, которые можно предотвратить, вести здоровый образ жизни и побеждать в наших проблемах, потому что Бог пообещал: «Моей благодати достаточно для вас, ибо моя сила совершается в слабости». (2 Коринфянам 12: 9).
Отношение и поведение
В книге Бытия рассказывается о сотворении мира и появлении греха в мире, а затем прослеживается история некоторых из наших самых ранних предков.Некоторые из них дают нам примеры здоровых духовных, физических и психологических принципов; другие иллюстрируют человеческие проблемы, проистекающие из нашей греховной природы. Например, Адам и Ева сразу же обвинили кого-то в бунтарском выборе, который они сделали каждый (Бытие 3: 12-13).
Первое, что мы видим, это то, что, хотя личные отношения человека с Богом были разрушены, наша потребность в отношениях с Ним не исчезла. Каин и Авель, сыновья Адама и Евы, стремились приблизиться к Богу, принося Ему приношение своих произведений (Бытие 4: 3-4).Однако после грехопадения человек хотел приблизиться к Богу на человеческих условиях, а не на условиях Бога (если он вообще приближается к Богу). Итак, принесение Каином «плодов земли» в жертву было признано неприемлемым, в то время как жертва Авеля была почитаема Богом (Бытие 4: 2-5). В Евреям 11: 4 говорится, что жертва Авеля была «по вере». Поскольку «вера от слышания, а слышание от слова Божия» (Римлянам 10:17), вполне возможно, что Бог сказал Авелю (и Каину), какого рода приношение Он хотел (хотя Бог мог сказать им косвенно через Адама).То, что произошло тогда, было поводом для послушания или непослушания.
Wikimedia.org Иосиф приказал своим слугам наполнить мешки пшеницей: иллюстрированная Библия Рафаэля де Меркателли, Гент, конец 15 векаРеакцией Каина на неприятие Богом его приношения был гнев. Затем Бог спросил его о его гневе. Зная, что он бессилен перед Богом, Каин напал и убил Авеля, поведение которого сделало его собственную несостоятельность очевидной.
Похоже, что поведение, эмоции и отношения Каина тесно связаны.Его поведение по отношению к Богу было небрежным, непослушным, непочтительным и непокорным, потому что его отношение к Богу было беззаботным и эгоистичным. Если бы его отношение было более подходящим и его предложение было просто дано по незнанию, Каин, вероятно, не отреагировал бы с таким гневом, когда Бог упрекнул его. Но из-за своего отношения Каин не мог раскаяться, и его отношение привело к гневным эмоциям и агрессивному поведению.
Однако ответ Бога на гнев Каина не сосредоточился на его отношении.Напротив, Бог попросил Каина признать его гневные чувства и затем поступить правильно, невзирая на эти чувства (Бытие 4: 6-7). Чувства — не та мощная контролирующая сила, как мы иногда думаем. Наше поведение вызвано нашими эмоциями только тогда, когда мы решаем позволить этому быть. Когда мы сознательно ведем себя вопреки нашим чувствам, мы часто удивляемся позже, обнаружив, что наши эмоции изменились. Итак, Бог сказал Каину, что, если он возьмет под контроль свое поведение, покаяние и изменение отношения станут возможными.
К сожалению, Каин поддался своим эмоциям, убил своего брата и, таким образом, еще больше погряз в грехе и был проклят Богом (Бытие 4: 8-16).
В Каине мы видим последствия неправильного отношения к Богу. Однако в Ное мы видим, как правильное отношение способствует хорошему эмоциональному здоровью. Ной был благочестивым человеком, и даже когда его просили сделать что-то столь же необычное, как построить ковчег, он «сделал все, как Бог повелел ему» (Бытие 6:22).
Большинство психически здоровых людей испытывают хоть какое-то желание нравиться другим и соответствовать им.Мы можем быть индивидуалистами, но не хотим, чтобы нас считали слишком странными. Ною сказали, что должно произойти беспрецедентное событие — потоп, который уничтожит все живое на земле, — и построить огромный ковчег, в котором будут спасены только он, его семья и представители всех видов птиц и наземных животных. Вряд ли проект, который он мог бы спрятать в своем гараже!
Импульсивная личность Питера несколько раз доставляла ему неприятности.Как справиться с травмой
Мало того, что Ной и его семья должны были справиться с тем, что их считали очень странными — и мы можем предположить, что их соседи действительно считали их странными, потому что эти соседи совсем не интересовались Богом — но и Ною и его семье пришлось тогда справиться с этим. травма от смерти остальных их родственников, их друзей и всех других животных.Только полная вера в Бога и позиция послушания могли позволить Ною и его семье пережить такой опыт, не испытывая серьезных эмоциональных проблем (Бытие 6: 5–9: 29).
Ной и Каин были созданы с личностью, включая потребности, желания и эмоции. Через веру в Бога Ной обрел силы, чтобы справиться с Богом и обрести мир с ним. Напротив, Каин навлек на себя много страданий, был отчужден от своей семьи и отвергнут Богом. Только подчиняясь Создателю, мы можем контролировать свои эмоции и жить в мире со своими личностями.
Семейные отношения
Хорошие семейные отношения зависят от честного, открытого общения, безоговорочной любви и принятия. Человек был создан с коммуникативными навыками и способностью любить таким образом, но личный интерес привносит обман и фаворитизм в семейные отношения, вызывая много печали и лишений.
Дом Исаака и Ревекки не был особенно счастливым. Их два сына были очень разными по натуре. В то время как Исаак благоволил к Исаву, старшему, Ревекка благоволила Иакову.Хотя они были близнецами, Исав родился первым и поэтому занимал в семье более важное положение, чем Иаков. Ревекка не приняла эту ситуацию, поэтому они с Иаковом обманом заставили Исаака дать Иакову традиционное благословение, предназначенное для старшего брата. Природа Иакова легко привела его к обману, а природа Исава уже заставила его относиться к своему положению в семье как к неважному, продав свое первородство Иакову за котелок тушеного мяса.
В результате Иаков спасся бегством от Исава.Он больше никогда не видел свою мать, так как примирение с Исавом не достигалось 20 лет. В это время дядя обманул самого Иакова (Бытие, главы 25–31).
Из-за того, что каждый отдавал предпочтение другому сыну, Исаак и Ревекка не смогли построить хорошие семейные отношения. Однако, увидев страдания, вызванные обманом и фаворитизмом, можно было надеяться, что Иаков попытался бы изменить свой образ общения, когда женился и имел собственных детей. Вместо этого мы видим первое четкое указание на то, что модели, усвоенные в детстве, сохраняются в последующих поколениях.
Любимая жена Иакова, Рахиль, много лет не могла иметь детей. Наконец, у нее был Иосиф, а затем Бенджамин. У Иакова было еще 10 сыновей, но он благосклонно относился к Иосифу, в результате чего старшие 10 были чрезвычайно ревнивыми, а Иосиф был довольно нечувствителен к чувствам и потребностям своих братьев. К тому времени, когда Джозефу исполнилось 15 лет, его братья были достаточно разгневаны, чтобы поговорить о его убийстве, а затем вместо этого продать его каким-то проходящим работорговцам. Однако Бог был с Иосифом, и Он использовал этот и многие другие пугающие и трудные опыты, чтобы превратить Иосифа в благочестивого, смиренного и прощающего человека (Бытие, главы 29–37).
Вина и прощение
Wikimedia.org «Пальто Иосифа, принесенное Иакову» Джованни Андреа де Феррари (1598–1669)Избавление от Иосифа не было ответом на проблемы его братьев. Настоящее и прочное исцеление после болезненных переживаний может наступить только тогда, когда ситуация будет исправлена, а связанные с ней проблемы решены. Братья никогда не признавались в своих действиях. Они заставили Иакова поверить в то, что Иосифа убили дикие животные. Иаков был безутешен в своем горе.Он отказывался от утешения со стороны других своих детей, подчеркивая, что Джозеф был его любимцем, и его исчезновение не изменит этого.
Двадцать лет спустя Иосиф все еще был проблемой для своих братьев. Когда у них что-то пошло не так, их угрызения совести напоминали им об их прежних ненавистнических действиях. К этому времени Иосиф стал правителем Египта, уступая только фараону, и отвечал за распределение продовольствия, когда весь народ страдал от жестокого семилетнего голода.В Ханаане было мало еды, поэтому Иаков послал своих 10 старших сыновей купить еды из Египта.
Иосиф узнал своих братьев и обвинил их в шпионаже. Возможно, чтобы проверить их характеры и характер Иакова, Иосиф потребовал, чтобы Вениамин был приведен к нему как к доказательству их невиновности. В целях безопасности Симеона держали под стражей, пока другие братья не вернулись с Вениамином. Хотя братья не узнали Иосифа, это бедствие напомнило им об их вине по отношению к Иосифу.До примирения было еще далеко, но процесс мог начаться после признания их вины.
Когда они прибыли домой, Иаков был глубоко опечален. Ситуация игнорировалась до тех пор, пока голод не заставил семью задуматься о еще одной поездке в Египет. Конечно, это было бы бессмысленно без Бенджамина, и, наконец, Джейкоб увидел, что события вышли из-под его контроля. В конце концов он смог оставить ситуацию под контролем Бога и заявил: «Если я потерял близких, я потерял близких» (Бытие 43:14).
Шокирующее раскрытие Иосифа своей личности вызвало страх в охваченных чувством вины братьях. Они заслуживали наказания, но Иосиф был в состоянии простить, потому что он знал, что Бог руководил его жизнью и что Бог использовал все обстоятельства для достижения Своих собственных целей и спасения многих людей (Бытие 45: 5-8; 50: 20).
Наше отношение к Богу, другим и самим себе омрачено личными интересами, поэтому наши отношения с Богом, семьей и друзьями не могут быть полностью удовлетворительными или полноценными.С другой стороны, братьям было трудно принять прощение Иосифа. Даже после смерти Иакова они все еще боялись его. Они снова использовали обман, чтобы заставить Иосифа простить их. Братья сказали Иосифу, что Иаков оставил Иосифу инструкции простить своих братьев. Но в их действиях не было необходимости. Это никак не повлияло на поведение Джозефа, потому что он простил их задолго до этого. Иосиф был в мире с самим собой, своим положением и с Богом, поэтому он мог безоговорочно прощать и принимать своих братьев.
Братья, однако, не желали считать себя менее достойными, чем Иосиф, даже тогда. Принять его прощение таким, каким оно было дано даром, означало бы увидеть себя как снопы пшеницы и звезды, склоняющиеся перед Иосифом, объектом их ненависти, как он и предсказывал, что когда-нибудь они сделают это, еще живя. со своей семьей в Ханаане.
Физически они поклонились Иосифу, когда пришли купить еды (Бытие 42: 6). Однако в духе они склонялись бы только тогда, когда видели бы себя преступниками и Иосифом, обиженным, достаточно сильным, чтобы простить их без какого-либо заслуги или манипуляции с их стороны (Бытие 50: 15-21).
Заключение
Из этого беглого взгляда на некоторые из основных событий, описанных в Книге Бытия, становится очевидно, что грех посеял хаос во всех сферах нашей жизни. Наше отношение к Богу, другим и самим себе омрачено личными интересами, поэтому наши отношения с Богом, семьей и друзьями не могут быть полностью удовлетворительными или полноценными. Люди постоянно пытаются улучшить и исцелить себя, обращаясь за помощью к врачам, психологам, гуру и так далее. Даже если большинство людей не признают этого, они пытаются стать тем, кем был создан человек, — отражением образа Бога.
Есть только один способ обрести эмоциональное здоровье и удовлетворительные отношения, и только один способ, которым могут произойти глубокие и устойчивые изменения в жизни человека.
Когда мы принимаем Христа Иисуса, Господа, мы становимся новыми творениями (Колоссянам 2: 6; 3:10; 2 Коринфянам 4:16; 5:17). Затем Святой Дух действует в нашей жизни, чтобы сделать нас все более и более похожими на Христа (Римлянам 8:29), Который является образом Бога (Колоссянам 1:15). Этот процесс продолжается на протяжении всей нашей христианской жизни; однажды это будет завершено, и план Бога исполнится (1 Иоанна 3: 2).
Ссылки и примечания
- Rendle-Short, J., Man: Ape or Image , Creation Science Publishing, 1981, стр. 29. Вернуться к тексту.
- Cosgrove, M.P., Psychology Gone Awry , Inter-Varsity Press, Лестер, 1982, стр. 128. Вернуться к тексту.
- Арт. 1. С. 23–38. Вернуться к тексту.
- Арт. 1, стр. 28. Вернуться к тексту.
- Арт. 1, стр. 29. Вернуться к тексту.
- Арт. 1. С. 30–32. Вернуться к тексту.
- Адамс, Дж.E., Компетентный советник , Presbyterian and Reformed Publishing Co., Нью-Джерси, 1970, стр. 128. Вернуться к тексту.
Визуализация Книги Бытия
Бытие — первая книга Библии. Он охватывает период от сотворения мира до смерти и погребения Иакова. Он также содержит наводнение и историю Иосифа среди других захватывающих событий.
Обычно, чтобы понять Бытие, вам нужно его прочитать. Но есть и другие способы «понять» это.Один из моих любимых — превратить всю Книгу в одну фигуру. Недавно я создал для этого инструмент, который назвал textSight. Это инструмент для понимания психологии языка.
Что делает textSight, так это берет слова в тексте и превращает их в визуальное отображение взлета и падения позитивного и негативного языка. Когда язык положительный (Хороший), линия рассказа движется вверх. Когда язык отрицательный (Плохой), линия перемещается вниз.
На рисунке ниже это показано для Genesis.Красные кружки показывают вам каждый раз, когда упоминается слово «Бог». Бог часто присутствует в истории Сотворения, но в меньшей степени во время похорон Иакова в конце.
Какая часть посередине, где история становится негативной, а Бог много вокруг? Чтобы узнать это, вы можете перейти к интерактивной версии здесь, которая позволит вам навести указатель мыши на эту часть истории, чтобы увидеть язык в этой точке истории. Убедитесь, что вы перетащили ползунок «сгладить тональность» вправо, чтобы вы могли объединить слова в плавный подъем и падение в соответствии с вашим настроением.
Самый отрицательный момент в истории — это когда Иосиф должен похоронить Иакова в конце. С другой стороны, творчество — это довольно позитивно. В этом есть урок жизни.
Визуализированный генезис с textSight
Источник: Thomas Hills
В интерактивной версии вы также можете ввести другие слова, которые могут вас заинтересовать. Например, вот слово «кровь».
‘кровь’ в Бытии
Источник: Thomas Hills
А вот и слово «любовь».«
«любовь» в Бытии
Источник: Thomas Hills
Положительность или отрицательность каждого слова определяется тем, что многих людей просят оценить слово по числовой шкале от менее до более положительного. Такие слова, как «кровь», как видно из рисунков выше, довольно негативны. Тогда как такие слова, как «любовь», оцениваются более положительно. Взяв эти числа и усреднив слова в тексте, можно визуализировать историю.
Подобные инструменты все чаще используются в психологии для оценки психологии естественного языка в газетах, книгах или онлайн-обзорах.Это большой рынок, и это называется анализ настроений.
Если вам интересно, вы можете ввести здесь свой собственный текст в этом инструменте, созданном вашим хорошим другом, Синтией Сью.
И если вас не устраивает отсутствие большего количества цветов, вот облако слов, которое показывает слова в зависимости от их частоты встречаемости. Как видите, Бог — ключевой персонаж. Многое также «сказано». Этот рисунок был создан с помощью одного из многих онлайн-инструментов для создания облаков слов.
Облако слов для книги Бытия
Источник: Thomas Hills
Наслаждайтесь.
Томас в твиттере
Психология без греха | Ответы в Бытие
Кто не хотел бы помогать другим с их психологическими проблемами? Однако для того, чтобы найти лекарство, мы должны понять две вещи: природу болезни и истинного психического здоровья. Оба они находятся в Книге Бытия.
Представьте себе улицу под названием Улица Консультации, где вы можете посетить терапевтический магазин после магазин терапии. В каждом магазине вы представляете свою борьбу с хронической депрессией. и беспокойство и выслушайте решения.Но это сбивает с толку — почти каждый магазин предлагает разные решения. Один терапевт диагностирует низкую самооценку и говорит, что вам нужно чувствовать себя лучше. Другой объясняет, что ваш мозг химические вещества не сбалансированы, и проводка нуждается в помощи для правильного зажигания. Пока что другой говорит, что у вас есть все симптомы подавленных воспоминаний.
Подобно врачу, терапевт ставит диагноз и лечение на основе того, что он или она считает, является источником проблемы. Но светские психологи не согласны по проблеме, поэтому их методы лечения сильно различаются.На самом деле нет стандартной психологии или терапия существует. Существуют сотни психологии и терапии! У нас есть есть надежда найти правильное лечение?
Неточная справочная литература
Библия раскрывает корень всех человеческих проблем: влияние греха на душу. К сожалению, Слово Божье не упоминается в терапевтических магазинах. Светская психология не допускает врожденной греховной природы, поэтому это сложно. представить себе, как они могли наткнуться на правильное лечение.Знаменитый психолог Карл Роджерс представляет многих до и после него. «Я очень хорошо знаю невероятное количество деструктивного, жестокого, злонамеренного поведения в современном мире — от угрозы войны бессмысленному насилию на улицах — я не считаю, что это зло заложено в человеческой природе ».
Роджерс продолжает: «Именно культурные влияния являются основным фактором. наше злое поведение. . . . Я вижу представителей человеческого рода. . . как по существу конструктивны по своей фундаментальной природе, но повреждены их опытом.”1 Его взгляд на человечество был его отправной точкой для разработки системы помощи ( терапевтический подход).
Шаг к излечению: идентификация здорового человека
В нашей культуре бесконечных терапий Слово Божье диагностирует самый главный корень человеческих проблем. Бытие с 1 по 3 подчеркивает проблему греха против наш Создатель. Фактически, любой истинно библейский подход к человеческим проблемам должен быть построены на этих основополагающих главах. В отличие от теории сдвига мире эти главы говорят абсолютную правду о нуждах человечества.
Мы созданы, чтобы прославлять величественного Бога вселенной, и наша основная потребность — вернуться к этой цели.
Бытие 1: 26–27 особенно важно для консультирования, поскольку в нем говорится, что мы носители имиджа, а не просто продвинутые животные. Как носители образа Божия, мы были созданы, чтобы прославлять величественного Бога вселенной — жить как поклонники — и наша основная потребность — вернуться к этой цели.
Послание к Римлянам 11:36 дает прекрасное руководство о том, что значит жить как восстановленный поклонник.Павел разбивает его на три части: «Ибо [от] Него и через Он и Ему все, Ему слава вовек. Аминь.» Мы были сделаны рассматривать все как от Него (Он источник нашей жизни). Мы были сделаны смотреть на все так, как будто они происходят через Него (Он поддерживает нашу жизнь). И нас заставляют смотреть на все так, как будто они принадлежат Ему (Он конкретный цель нашей жизни). Если Бог является источником, опорой и целью, Он есть все необходимое! Оплачивая счета или любя супруга, мы должны делать все вещи, как если бы они исходили от Него, через него и к Нему.Какой замечательный способ живи, и Бог получит славу!
Всемирная эпидемия
Но что-то радикальное нарушило эту прекрасную цель нашего существования. Адам и Ева, призванная поклоняться (любить, доверять, почитать и повиноваться) Создателю, «поклонялась и служили твари »(Римлянам 1:25). Это окончательное происхождение личных проблем. Неудивительно, что сразу возникли вопросы консультирования. после грехопадения в человеческий опыт вошли сокрытие, страх, чувство вины и перекладывание вины.Грех немедленно испортил брачные отношения. Но, к большому сожалению, мы были отделены от Бога, Который создал нас, чтобы быть в близких отношениях с ним.
Священное предписание Послания к Римлянам 11:36 уместно прибывает в конце одиннадцатого главы, описывающие Божий искупительный план по избавлению от нашего греховного состояния. Бог заложенная в Евангелие сила восстановить мои нарушенные отношения с Он и другие. У Христа есть сила освободить меня от «беспорядков поклонения» моей жизни, чтобы я снова мог жить, чтобы прославлять Его.
Роджерс, как и многие до и после него, винил в наших проблемах наш опыт. Мы не можем принять эту точку зрения, не превратив каждого в жертву, которая не должны нести ответственность за свои действия. Библия, напротив, возлагает на нас ответственность за то, как мы реагируем на наши обстоятельства, в то время как по-прежнему оставаясь милосердным к грешникам и чутким к тем, против кого согрешили. А памятная иллюстрация — пакетик чая в горячей воде. Наш опыт похож на горячая вода, а чайный пакетик — это наше сердце с его греховной природой.Горячая вода жизнь вытягивает то, что уже есть в моем сердце. Конечно, кипяток еще больно!
Когда мы ищем ответы на жизненные проблемы, мы лишаем Бога Его славы, игнорируя Его рецепт и обратимся к другим диагнозам и методам лечения.
Бог разъяснил причину нашей проблемы в Бытие 1–3 и предписал единственное лекарство, Иисус Христос. Подробности применения Божьего ответа к каждому человеку Задача может быть сложной и разнообразной, но справочник и его основные рецепты одинаковы для всех.
Вопросы для обсуждения
- Посмотрите Псалом 18: 1–6 и отметьте «переживания» Давида (терминология Роджерса). Как Дэвид справлялся со своим давлением / переживаниями?
- Продолжая думать о Псалме 18, спросите себя, что вы обычно делаете ваши «скалы» и «крепости», чтобы справиться с жизненными трудностями.
- Как эти метафоры связаны с проблемами консультирования, такими как злоупотребление алкоголем а просмотр порнографии? Как такое поведение могло считаться «поклонением? расстройства »?
- Согласно Писанию, какие ключевые принципы для наставника / советника? следовать при работе с кем-то, против кого согрешили? (См. К Римлянам 12:10; 12:15; и Галатам 6: 2, чтобы вы начали.)
- Какую роль должно играть богословие в развитии системы библейского консультирования? Например, как делают хамартиологию (учение о грехе), антропологию (учение о грехе)? природа человека), библиология (природа Библии) и сотериология ( учение о спасении) относятся к консультированию?
- Подумайте о том, что Исаия 61: 1–2а обещает относительно служения Христа. и сила Евангелия. Что Он обещает? Свяжите это с консультированием вопросы.
- Подумайте над предлогами в Послании к Римлянам 11:36, которые помогают нам понять что значит жить как прихожанин.Как можно рассматривать конфликты так, как будто они от, через и к Богу? Как ты относишься к сложным отношениям с вашим супругом или родителями, как если бы они были от Него, через него и к Нему?
Доктор Эрни Бейкер — сертифицированный библейский консультант Национальной ассоциации неутешительных советников и член Совета Коалиции библейского консультирования. Он имеет 25-летний опыт работы пастором и преподает в магистерском колледже, где преподает широкий спектр курсов по библейскому консультированию.
Бытие 1-3 Психологическая интерпретация
Возможно, авторы Библии пытаются объяснить что-то более фундаментальное для самого человечества, а не просто излагают исторические / научные подробности о событиях. Важно ли, произошло ли сотворение мира в точности так, как сказано в Библии, или нам следует искать другие интерпретации этого рассказа?
Есть те, кто считает, что мир был создан в точности так, как это сказано в Бытие 1-3.«В начале Бог сотворил небо и землю. Теперь земля была бесформенной и пустой, и тьма распространилась по поверхности бездны, и дух Божий парил над водой »(Быт. 1: 1).
Однако есть параллели между этим рассказом в Бытии, индуистскими мифами о сотворении мира и вавилонскими мифами. Мифы о сотворении мира. Что, как я считаю, предполагает, что человечеству в целом есть что-то врожденное, что на протяжении всей истории люди считали необходимым выразить.
Возможно, авторы Библии пытаются объяснить что-то более фундаментальное для самого человечества, а не просто излагают исторические / научные подробности о событиях.Важно ли, произошло ли сотворение мира в точности так, как сказано в Библии, или нам следует искать другие интерпретации этого рассказа? Платон использует аллегорию, чтобы обрисовать концепции невежества человечества. Никто не считает пещеру существующей на самом деле. Истины о нашей жизни и нашем понимании остаются актуальными и без фактического присутствия пещер. Разве то же самое нельзя сказать об истории сотворения мира?
Гуманистическое психологическое мышление рассматривает историю изгнания Адама и Евы из Эдемского сада, проводя параллели между Эдемом и утробой матери.Васделл считает, что внутри всех нас присутствует что-то вроде бессознательного зародыша, что ведет к интерпретации повествования Бытия, которая не является ни научно обоснованной, ни исторической. Есть явные параллели между Адамом и Евой в Эдеме и еще не родившимся младенцем. Подобно Адаму и Еве, потребности плода удовлетворяются еще до того, как он осознает свои потребности. Младенец имеет «власть» (Быт. 1:26) над своим окружением, насколько это возможно. Его кормят до того, как он осознает голод, он не испытывает жажды и так далее.Адам и Ева имеют «всякое семя на земле, приносящее плоды, и каждое дерево, приносящее плоды» (Быт. 1:29), и все они готовы к употреблению в пищу. Ребенок находится в постоянных отношениях со своей матерью, не имея представления о том, что он общается или даже не является отдельной сущностью.
Можно продолжить метафору и провести сходство между древовидной формой плаценты и «деревом жизни» (Быт. 12: 9) и пуповиной и змеем. Как же тогда ужасен отказ ребенка от этого состояния, когда начинаются роды.Младенец «изгнан» Быт. 3:23 в суровую реальность. Утроба, которую лелеяли и защищали, в конце срока превращается в сужающуюся, загрязненную и суровую среду, в которой ребенку нужно дышать самостоятельно, он осознает голод и жажду. Его потребности удовлетворены. Он перешел из состояния блаженства в состояние, в котором его чувства постоянно подвергаются нападкам. Здесь также есть очевидные платонические параллели с побегом узника. Покинув «безопасность пещеры», заключенный сталкивается с суровой реальностью реального мира, которая с самого начала настолько оскорбляет его чувства, что он ослеп.
Разумеется, понимать рассказы Бытия просто как исторические или научные отчеты о начале Вселенной — значит отрицать библейское повествование о некоторой потенциальной возможности нашей связи с бессознательным зародышем внутри всех нас.
(PDF) Системно-генезисный подход в психологии
73
СИСТЕМНО-ГЕНЕЗНЫЙ ПОДХОД В ПСИХОЛОГИИ
Шадриков также помог определить основные термины
психологической деятельности: активность, цель деятельности, деятельность
результат, характеристики деятельности, активность эффективность
параметров, целевые параметры, метод работы, нормативный
утвержденный метод работы, индивидуальный метод работы,
индивидуальный стиль работы, структура, функция (элемент,
структура, система), система, структура и система
элементов, структура и системные компоненты, динамическая
система, структура деятельности психологическая деятельность
структура, функционально-психологическая система деятельности,
психологическая система деятельности и системогенез.Рассмотрение
деятельности как «типа деятельности человека
, выраженного в гормональной трансформации естественной и
социальной реальности» пронизывает все его исследования.
В психологическом анализе деятельности Шадриков
впервые выделяет такие термины, как
«структура деятельности», «структура психологической деятельности»,
и «система психологической деятельности». Шадриков также
различает природу двух отдельных понятий,
«система» и «структура», в анализе психологической деятельности
.Система определяется как «структура, которая
рассматривается в связи с ее определяющей функцией»
и требует использования системных принципов. Что касается системы
, следует отметить, что один и тот же результат
может быть достигнут разными системами, и в одной и той же структуре
одни и те же элементы могут быть распределены между различными системами
в соответствии с обозначенными
использовать. По мнению Шадрикова, система всегда имеет функциональную составляющую
; следовательно, такие термины, как «система»
и «функциональная система» действуют как синонимы.
«Система психологической деятельности» как базовое понятие
теории системогенеза Шадрикова впоследствии
стало методологическим термином. К.А. Абулханова —
Славская отмечает этот факт (1979, 2007) и заявляет, что
Шадриков поднимает методологические вопросы в процессе
решения проблемы деятельности посредством
четкого и полного выделения психологического
аспекта своего анализа. . Он вводит новую концепцию системы психологической деятельности
и выделяет компоненты
и уровни анализа ее системного генезиса.Абульханова
показывает, что автор теории генезиса систем деятельности
прослеживает взаимосвязь между психологической структурой активности
и реальной социальной активностью, выделяя субъективный результат деятельности
, сравнивая его с социальным
и объединяя эти два различные реальности деятельности
через личность (Абулханова-Славская,
Денисов, Чернышев, 1981; Абулханова, 2007).
В подходе системного генезиса познание
понимается как процесс и как система действий или
других функциональных единиц обработки информации.Таким образом, познание
включает в себя как структуру, так и систему.
Метод Шадрикова влечет за собой план деятельности в пределах
, в который интегрированы все составляющие деятельности — цели, условия,
,инструментов и т. Д. Он утверждает, что психологический характер
и предмет психологического исследования деятельности
— это «функциональная психологическая система
деятельности, которая формируется на основе качеств
человека, достигающего цели деятельности» (1996, с.
287).
Обнаружив особенности познания
с помощью системного подхода, Шадриков затем обозначил
выдающиеся особенности и основные направления реализации этого подхода
в процессе деятельности
исследования, указав условия для единое
понимание результатов системных исследований. Шадриков
излагает объект, предмет и задачи, затем определяет
базовых направлений исследования психологической деятельности, и, наконец,
предлагает общую теоретическую конструкцию (модель), реализующую
подход психофизического единства в своем исследовании. .
Подводя итог, Шадриков в своих работах выделяет: (1)
изменение объективного мира и связанное с ним изменение
в процессе целенаправленной деятельности личности;
(2) механизм регуляции психической деятельности; (3)
изменение человека в процессе деятельности; (4)
влияние деятельности на человеческую природу (1994, с. 10).
В процессе анализа теории системного генезиса
Шадриков создал идеальную модель психологической системы деятельности
и ее теоретический конструкт.У него
также намечены определенные решения в отношении
подробных задач изучения психологической деятельности с использованием этой модели
. Отмечая, что в процессе разработки архитектуры системы психологической деятельности
,
своей работы он основывал на структуре функционально-физиологической системы
, созданной П.К. Анохиным, Шадриков подчеркивает
, что структурные элементы психологической деятельности
Системаимеет другое содержание; это отличное содержание
обозначено и описано в психологической теории системного генезиса активности
(1994; 2007b; 1979; 1996).
Таким образом, Шадриков нашел ответ на вопрос об универсальном психологическом механизме деятельности
.
Деятельность осуществляется через функциональную систему,
, которая на уровне психологического анализа действует как
система психологической деятельности. По этой причине
можно провести анализ деятельности и описать
его отдельных компонентов. Активность можно описать с помощью
с учетом как механизмов развития, так и функциональных
.Однако автор теории системного генезиса
указывает, что каждый вид деятельности имеет различное содержание системы психологической деятельности
, механизмы развития
, взаимосвязь между компонентами системы психологической деятельности
, связь между
композиционной системой. анализ и эффективность психологической системы деятельности
и системообразующих факторов деятельности
на различных этапах ее освоения.Доказано, что
показатели развития деятельности увеличиваются за счет
развития целостной психологической системы деятельности
, с целостностью ее различных компонентов
(мотивационных, информационных, программных и
управляющих) (Шадриков, 2007б) .
В своих работах Шадриков рассматривает тесную взаимосвязь
профессиональной и педагогической деятельности и
возможность применения объективных закономерностей деятельности
Genesis Clinical Services, S.C.
GENESIS CLINICAL SERVICES — это хорошо зарекомендовавшая себя инновационная частная клиническая практика с полным спектром услуг, которая трансформирует индустрию психического здоровья и благополучия. Наша целеустремленная команда состоит из врачей, практикующих медсестер, психологов, терапевтов со степенью магистра, лицензированных клинических профессиональных консультантов и социальных работников, а также динамичной административной команды, которая окружает нашу клинику под ключ.
Мы находимся в Уитоне, штат Иллинойс. GENESIS состоит из совместной сети профессионалов в области психического здоровья, стремящихся предоставить высочайшее качество услуг по охране психического здоровья в округе Дюпейдж.
Genesis может предложить новым пациентам первичную оценку. Свяжитесь с нашим координатором по работе с новыми пациентами по телефону (630) 653-6441, доб. 204, чтобы назначить встречу. Из-за пика количества звонков в это время года вы можете дозвониться до нашей конфиденциальной голосовой почты. Пожалуйста, оставьте свою контактную информацию и номер телефона, по которому с вами можно связаться. Наш координатор по новым пациентам свяжется с вами в течение 24 часов. Новые формы пациентов доступны здесь. ~
График предстоящих праздников для нашей практики:
25 ноября 2021 г. День благодарения закрыт
26 ноября 2021 г. Пятница закрыта
24 декабря 2021 г. Сочельник закрыт
25 декабря 2021 г. Рождество Closed
* Пожалуйста, проверьте свой рецептурный флакон на предмет доступных заправок, чтобы избежать перебоев в приеме лекарств.Наш офис закрыт, однако всегда есть дежурный поставщик услуг. По любым вопросам, пожалуйста, позвоните в нашу службу ответа в нерабочее время.
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Мы снова начинаем принимать пациентов в офисе.
Пожалуйста, внимательно прислушайтесь к своему звонку с напоминанием о вежливости.Их доставляют всем пациентам с помощью текстовых сообщений или по телефону за два дня до приема. Прослушайте сообщение полностью, независимо от того, будет ли ваше посещение лично (лицом к лицу) или сеанс телемедицины (виртуальный).
Если у вас возникнут какие-либо вопросы, позвоните в нашу группу по работе с пациентами по телефону 630 653-6441 X0
________________________________________________________________________________________________
Важное объявление от 01.07.2021
Для безопасности и защиты наших пациентов и персонала , GENESIS CLINICAL SERVICES продолжит предлагать сеансы телездравоохранения.Пожалуйста, уточните в своей страховой компании ваши льготы. Некоторые планы прекратили покрытие долевого участия.
-
Мы начинаем принимать пациентов в офисе. Ваш поставщик медицинских услуг может потребовать, чтобы вы вернулись в офис для следующего визита. Ваш врач сообщит вам, будет ли ваш визит Remote или Face to Face .
-
Из-за педиатрических кабинетов на 1-м этаже — в нашем офисном здании по-прежнему требуются маски для лица — даже если вы были вакцинированы
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ Многие __
06 Политика управления лекарствами запросы пополнения факса.Из-за периодической смены лекарств сообщите в аптеку, что Genesis Clinical Services
не принимает запросы на пополнение запасов по ФАКСУ.Если вам понадобится пополнить запас лекарств, сначала поговорите напрямую со своим фармацевтом . В вашей местной аптеке могут храниться запасы лекарств, которые можно пополнить немедленно, не связываясь с нашим офисом. После того, как вы поговорите со своим фармацевтом и убедитесь, что у вас НЕТ дополнительных лекарств, позвоните на нашу горячую линию по рецептам (630) 653-6441 X501 и следуйте инструкциям.
Все наши врачи и практикующие медсестры имеют возможность выписывать электронные рецепты. Убедитесь, что у вас есть лекарства во время вашего рабочего сеанса (или сеанса телемедицины).
(Нажмите здесь , чтобы увидеть полные заявления о политике Genesis)
_________________________________________________________________________________________________
Обновление политики неявки / поздней отмены:
Если вы не можете прийти на прием, мы просим вас позвонить наш офис в течение 24 часов после назначенного времени приема.Таким образом, это позволяет другому пациенту быть осмотренным врачом / терапевтом в течение этого временного интервала.
Отказ связаться с нашим офисом может привести к уплате комиссии (75 долларов за 30-минутный сеанс или 125 долларов за 45-60-минутный сеанс) за пропущенные встречи или отмену менее чем за 24 часа.
Сообщение голосовой почты с меткой времени можно оставить круглосуточно 7 дней в неделю непосредственно в нашем офисе, набрав: 630 653-6441 Опция 0
(Нажмите здесь , чтобы увидеть полные положения политики Genesis)
_________________________________________________________________________________________________
Ссылка на оплату счетов через Интернет: теперь вы можете оплатить свой баланс, совершая платежи через Интернет.
Нажмите здесь, чтобы зарегистрироваться: https://www.paymydoctor.com/
Нажмите здесь, чтобы посетить нашу страницу в Facebook и «поставить лайк»: https://www.facebook.com/genesisclinicalservices /
ИАП || Книга || Инновации Genesis
Микрогенез и созидательный разум в действии
Под редакцией:
Эмили Эбби, Колледж Святого Креста
Райнер Диривехтер, Калифорнийский лютеранский университет, США
Том из серии: «Достижения в культурной психологии: конструирование человеческого развития».Редактор: Яан Валсинер, Нильс Бор, профессор культурной психологии, Ольборгский университет, .
Опубликован в 2008 г.
Культурная психология в настоящее время находится в стадии быстрого роста. Innovating Genesis — это пример того, как самый центральный аспект любой науки — ее методология — претерпевает революционные преобразования. Тем не менее в этой книге мы видим тщательную преемственность с прошлым дисциплины. Ориентация на изучение процессов эмерджентности была хорошо подготовлена традицией Ganzheitspsychologie в начале двадцатого века.Если с тех пор мы все узнали что-то о мире, то неизбежное качество целого превосходит его части. Ученые пытались понять общее представление о таких целостностях, но периодически возвращались к легкой иллюзии, что можно свести сложность событий in vivo к тщательному изучению in vitro. Изучая историю того, как целостные идеи могут помочь нашим нынешним исследованиям, эта книга демонстрирует, как современной науке есть чему поучиться на собственном опыте.
Редакторам этого тома удалось собрать творческую международную команду ученых, которых они направили, чтобы достичь цели по содержанию книги — новаторски генезис методов изучения психологической эмерджентности.
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие: Генезис методологических инноваций, Яан Валсинер . Введение редактора, Эмили Эбби и Райнер Диривехтер . ЧАСТЬ I: МИКРОГЕНЕЗ ВИЗУАЛЬНОГО ГЕСТАЛЬТОВОГО ВОСПРИЯТИЯ .От визуального актуального генезиса и онтогенеза к теории человека, Лотар Кляйне-Хорст. Развитие «развития» в теории и методе: комментарий к Кляйне-Хорсту (2007), Брэди Ваггонер. ЧАСТЬ II: СМЫСЛ ПРОТИВ НАСИЛИЯ. Создание ненасилия: аффективная саморегуляция в перестрелке, Николь М. Капецца и Яан Валсинер. Необходимость микрогенетического анализа семиотических полей в социальной психологии, Gyuseog Han . ЧАСТЬ III: СИМВОЛИЧЕСКОЕ САМОУСКЛЮЧЕНИЕ. Процесс обработки: микрогенетический взгляд на микрогенетический анализ, Валери М. Беллас и Джеймс П. Макхейл. Исследователь на распутье: комментарий процесса обработки, Карла Кунья. ЧАСТЬ IV: НАСЫЩЕННЫЕ МЕЧТЫ. Пробудившийся Морфеус: микрогенез в мечтах, Стейси Перейра и Райнер Диривехтер . Микрогенетическое исследование сновидений, Жанетт Лоуренс и Агнес Э. Доддс . ЧАСТЬ V: РАННЕЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДМЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ. Производство знаков и смысловой процесс в триадическом взаимодействии на проязычном уровне: задача социокультурного анализа — пример остенсии, Кристиан Моро и Синтия Родригес. Сложные вопросы при изучении ранней семиотической активности у детей, Selma Leitão .


